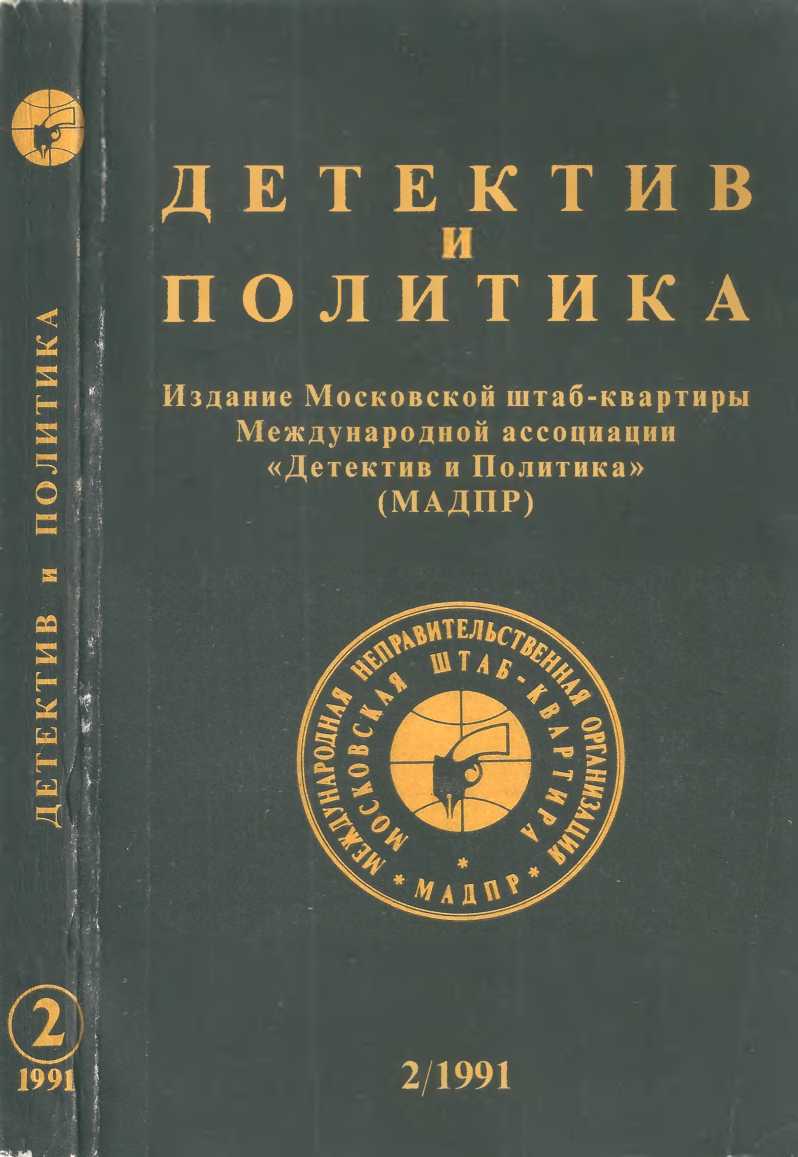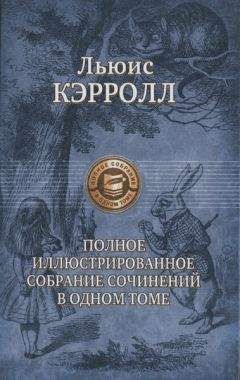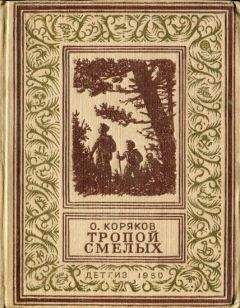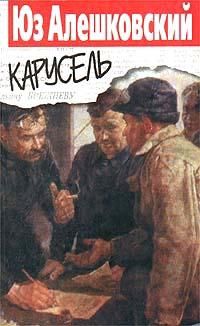из темноты, а потом я вдруг вспомнил одного немца, у него на плече была татуировка — женское лицо и под ним кощунственная надпись: "Прейдут земля и небо, но лик Твой пребудет вовеки". Это были святые слова, но немец служил во французском торговом флоте, а еще раньше прошел с Роммелем пустыню, и ему было наплевать на святость мира того. Потом мне стало мерещиться, что у немца было вытатуировано не лицо женщины, а лицо Гриши, такое, каким я его недавно увидел — разбитое и опухшее лицо с издевательски вытаращенным глазом. Я никак не мог уснуть, слышно было, как плачет Лена и как выговаривает Грише, что он понапрасну извел целую пропасть мяса, не ту малость, что на наших глазах исчезала на сковородке, но целую гору мяса, которую можно было бы есть нескончаемо долго; и было слышно, как умоляла Гришу отодвинуться от нее подальше со своим страшным лицом и не мешать ей спать, а потом, уже на пороге моего сна, я услышал, как он поборол ее сопротивление и как Лена плачет от унижения, и подумал, что Гриша — все-таки сильный мужик, а то, что произошло час назад, — случайность, и так мне было приятно слышать ее плач, и я уснул.
На следующее утро мы побрились несколько позже обычного, Гриша залепил глаз пластырем, мы съели по тарелке овсяных хлопьев, приготовленных на маргарине, Гриша поцеловал хныкавшую, еще теплую со сна Леночку, и мы вышли из барака. Тот старикан, у которого племянник уехал в Америку, нас уже поджидал. Он был чисто выбрит и выглядел опрятно: на шее — косынка, а на куцых штанишках — старательно наведенные стрелки; мы в своих грязных штанах хаки и пропитанных потом рубахах смотрелись с ним рядом как кочегары. Старик держал письмо.
— Вы ведь пройдете мимо почтового ящика, — сказал он. — Так я попрошу вас об одолжении.
Он протягивал пухлый тяжелый конверт, видно, писал полночи, покашливая и вытирая слезы. Я хотел было взять письмо, но Гриша остановил меня.
— Мы пойдем на хаифское шоссе, — сказал он. — А там нет ни одного почтового ящика. Придется вам прогуляться самому.
Старик недовольно поморщился и отошел, а я вопросительно посмотрел на Гришу.
— Ей-богу, не понимаю, зачем нам хаифское шоссе? — сказал я. — Это лишних три километра, а ведь автобус останавливается у нас под самым носом.
— Ну и что, — сказал Гриша. — Извини, не знал, что у тебя срочное дело. Мы все равно до девяти никого не поймаем, иногда не мешает и погулять.
— Так ведь три километра, Гриша.
— Ну да, — сказал он. — Такая прогулка благотворно отразится на твоих потрепанных нервах.
Мы пошли через поле к шоссе, а потом шли по берегу моря через обширный пустой пляж, еще никто не купался, и пляж был чистый и красивый; потом мы снова поднялись на гору, повернули налево и пошли через район, в котором проживали дипломаты — в небольших аккуратных домиках, прятавшихся в гуще фантастических цветущих деревьев; у каждого дома перед входной дверью стояли бутылки молока, перед некоторыми — по три и даже четыре, из чего можно было сделать вывод, что у дипломатов полчища детишек. Мне сделалось как-то не по себе из-за маленькой Леночки, и я покосился на Гришу; он тоже глядел на бутылки молока, но с таким видом, словно ему на них наплевать. Мне захотелось взять камень и, ничего не объясняя, расколотить их все до единой — хладнокровно и методично. Но я не мог себе этого позволить; отправляясь в город, мы надеялись, что уж сегодня обязательно что-нибудь да придумаем. Эта надежда питала нас каждый день на протяжении целых двух месяцев.
Домики были такие нарядные и такие чистенькие, что казалось, в них живут куклы, а не люди. Гриша остановился у одного из них, вынул из кармана жестяную коробку с запечатленным на крышке бородатым капитаном и ни с того ни с сего уселся под забором, опершись спиной о решетку и вытянув ноги аж на середину дороги.
— Садись, — сказал он. — Покурим.
Я присел чуть поодаль, на камень; было только начало восьмого, но камень уже порядком нагрелся и припекал зад. Гриша, приметливый черт, усмехнулся.
— Что? — сказал он. — Боишься повалить ихнее хозяйство? Так ведь у них не убудет.
— Я что-то не жажду, чтобы меня обложили последними словами, — сказал я, усаживаясь рядом с Гришей и тоже опираясь о решетку. Мы закурили, и у меня на душе потеплело. Я сидел, развалившись, рядом с Гришей и раздумывал, как немного надо, чтобы наслаждаться жизнью в этой стране. На первых порах по приезде сюда я искренне считал, что мне здесь не нравится. Но, пожив подольше и побольше узнав, понял, что ошибался. Дело в том, что я, сам того не подозревая, любил этот край. И всегда буду любить. Я люблю поля, над которыми взлетают и кружатся султаны воды; и апельсиновые рощи, пахнущие так сладко, что боишься в это поверить; и ласковые холмы Галилеи; и внезапно возникающие на горизонте маленькие городишки, жители которых, арабы, умудряются говорить на десяти языках, на всех одинаково плохо и одинаково бегло и важно. Я верю, что здесь обитает Бог и что Он никогда отсюда не уходил. Пусть десяток новых несчастий обрушится на эту страну, я все равно буду верить в это, потому что только здесь ощущал Его. Мне захотелось обо всем этом рассказать Грише, я повернулся к нему, и тут у меня от страха сердце оборвалось, я облился холодным потом и в горле пересохло, будто за всю свою жизнь я не выпил глотка воды.
Передо мной стояла собака, огромная, как теленок, только куда страшнее, — сущий дьявол, разве что без рогов. Она была черная, как смола, и лохматая, лапы толстенные, а какие зубы, об этом догадаться несложно по заросшей квадратной морде. Этих собак я знал, это был ризеншнауцер, порода редкая и очень дорогая; с ризеншнауцерами ходят на охоту, так как они не боятся воды, а во время войны эти фигляры из СС использовали их как полицейских собак — они пострашнее овчарок. Мне довелось увидеть, как ризеншнауцер бросился на человека, вцепился в горло и повалил на землю, одним движением пасти распоров спину несчастного.
— Значит, — сказал я Грише, — продолжения не будет.
И вот теперь такая собака стояла в двух шагах от меня и виляла коротким хвостом. Я не шевелился; сигарета обжигала пальцы, но я боялся бросить ее, пусть лучше сама выскользнет. Осторожно подтянул к себе