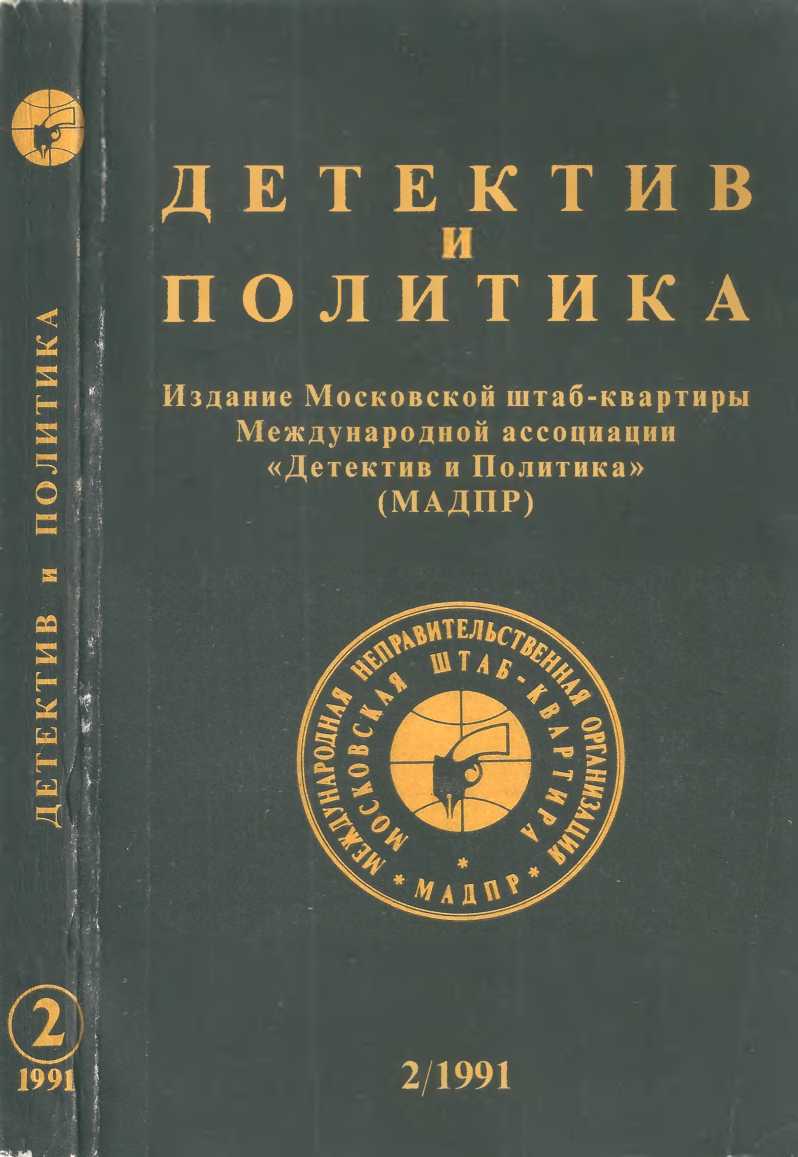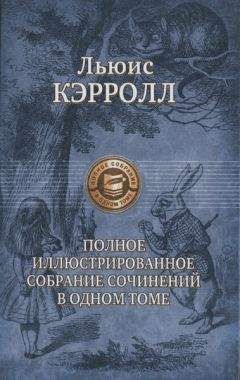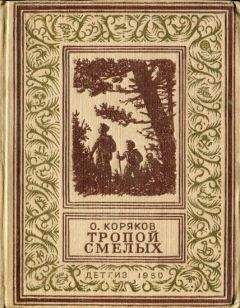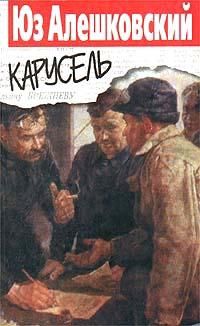ноги: если собака попытается схватить за горло, я, выпрямив ноги, отшвырну ее. Но она стояла смирно, непонятно чего дожидаясь; перед носом у нее пролетела муха, и она небрежно щелкнула пастью. Потом мокрым квадратным носом потянулась к моей щеке и старательно обнюхала, чуть-чуть меня подтолкнув. Я, к ее удивлению, не пошевелился, и она раз и другой подпихнула меня толстой лохматой лапой — видно, это ее забавляло, потом отскочила на метр и залаяла густым басом, и тогда я увидел ее огненно-красный язык. Наконец она побежала прочь, подскакивая на бегу и повернув ко мне косматую морду, будто я обманул ее ожидания, не ответив на заигрывания. Я набросился на Гришу.
— Что же ты, дубина, трудно было взять камень? — сказал я. — Тюкнул бы ее по башке — и вся недолга. Она меня чуть не загрызла, а ты сидишь, будто кол проглотил.
— Скажи это себе, — ответил Гриша. — Ты и сам мог взять камень и тюкнуть ее.
— Я и моргнуть-то боялся.
— А я что? И я боялся.
— Откуда только взялась эта дрянь? — сказал я. — В жизни не видел такой громадины.
— Красивая собака, — сказал Гриша. Было заметно, что он злится, наверное, стыдно, что струсил. Искоса глянув на меня, сказал: — А ведь цапни она тебя…
Он завертел головой и, не закончив предложения, снова злобно посмотрел в сторону, явно избегая моего взгляда, и я снова подумал, что ему стыдно. Жалко мне его стало.
— Ну пошли, Гриша? Да ты не расстраивайся. Ведь все обошлось.
— Обошлось, — сказал Гриша.
Мы шли к автобусу, а эта тварь бежала за мной — не за Гришей, не за нами, а за мной, чтоб ей было пусто. Я и не оборачиваясь знал, что в один прекрасный момент она кинется на меня сзади и свалит с ног. На остановке она даже толкнула меня разок, а когда наконец подъехал автобус и мы поехали, еще долго бежала за нашей развалюхой и лаяла. Пассажир, стоявший рядом со мной, удивленно сказал:
— А у вас красивая собака.
— Очень красивая, — сказал я, вытирая пот. — Аж жуть берет. Хотите, уступлю?
— Боже упаси, — испуганно замахал руками пассажир. Но было видно, что он что-то взвешивает про себя. — А много она жрет?
— Две бутылки шампанского и банку икры в день, — сказал Гриша. — Зато за жену можете быть спокойны, уж она ее укараулит.
— Хамство какое!
— Сам напросился.
— Видно, вы здесь недавно.
— Недавно, — ответил Гриша. — Но уже успел отсидеть за членовредительство. Не так уж там и плохо.
Пассажир обиделся и, обращаясь ко всем сразу, начал громко вещать, что прежде все было иначе, и что люди друг с другом разговаривали уважительно, и что дом можно было не запирать, никогда ничего не пропадало. Решетки в окнах появились после войны, с прибытием новых эмигрантов. Лично он копал здесь дороги и болел малярией, в то время как Гриша жил в Европе, как у Христа за пазухой; тогда Гриша посоветовал прислать ему счет за свою малярию, он, мол, посмотрит, что можно будет для него сделать, а потом стоявший рядом солдат, прежде равнодушно пропускавший все мимо ушей, он был смугл и мускулист, спросил меня, почему мы, евреи, не можем жить мирно. Я сказал, что не знаю, и так мы доехали до Тель-Авива. Я вышел из автобуса, у меня все еще дрожали коленки, и сказал Грише:
— Больше той дорогой не пойдем. Эта тварь второй раз своего не упустит.
На улице Кинг-Джордж мы увидели субчика, про которого знали, что у него есть блат и что он может подыскать нам работу. Он сидел в маленьком кафе и что-то ел, а что именно — лучше не уточнять. Он с набитым ртом говорил Грише, что сейчас, как никогда, трудно с работой, что понаехало много новых эмигрантов и непонятно, куда их рассовать. Он закончил есть и говорить одновременно и, глядя на нас невинным взором, подождал немножко, а потом снова набил рот едой и заговорил. Ему, мол, ужасно неприятно видеть двух молодых людей без работы, впрочем, когда он сам приехал в эту страну, здесь не было ничего, кроме стычек с арабами и малярии, он, однако, как-то пережил это.
— Проехали, — сказал Гриша. — Куда ты можешь нас пристроить и за сколько? Я тут твой треп слушать не собираюсь.
Субчик проглотил огромный кусище и сказал без запинки:
— Триста фунтов.
— Только и всего? — спросил я.
— Триста, — сказал он и показал на меня пальцем. — За вас обоих. Получите постоянную работу.
— Триста фунтов тебе, — сказал Гриша. — А сколько будем зарабатывать мы?
— Восемь с половиной фунтов в день, — сказал он. — Ставка такая.
— Значит, месяц горбатиться за каких-то двести двадцать фунтов. Да еще ты хочешь триста.
— Я хочу? — изумился субчик. — Я хочу спокойно покушать. Это вы хотите. Пожалуй, вам надо обратиться в посредническое бюро по трудоустройству, так, наверное, будет лучше. Уж они вам найдут работу.
Он поднял палец и показал на разбитое Гришино лицо.
— Попал в аварию?
— Нет, — ответил Гриша. — С дочкой играл.
Я пододвинул к себе стул и уселся рядом с субчиком. Он слегка отодвинул тарелку.
— Ладно, — сказал я. — Ты получишь свои триста фунтов. А когда мы сможем начать работать?
— Когда? — повторил он. — Завтра. Заплатите сегодня, и я вам прямо сегодня все и устрою. Завтра начнете.
— Послушай, — сказал я. — Мы с ним в последний раз видели триста фунтов в кино, в рекламе государственной лотереи. Поработаем месяц, и ты получишь свои башли. Идет?
Я протянул ему руку, подождал немного, а потом Гриша изо всех сип ударил меня по руке, и она отлетела в сторону.
— Мы еще увидимся, — сказал Гриша.
— Само собой, — сказал субчик. — Почему бы и нет, как только разживетесь тремя сотенками.
Вот и все; мы пошли дальше; если бы не Лена, можно было бы вернуться домой, но нельзя прийти в десять часов утра и сказать, что у нас ничего не вышло, это был бы полный предел. Вот и приходилось возвращаться после четырех, вместе с закончившими работу людьми, и делать вид, что мы измучены поисками работы, просто падаем с ног от усталости. Пожалуй, нет ничего мучительнее, чем притворяться измученным — в некоторых случаях. Впереди было еще несколько часов, и мы пошли нашей обычной дорогой — в сторону моря.
— Он, в общем-то, неплохой, — сказал Гриша. — Просто по-другому не умеет.
И через минуту добавил:
— Он, должно быть, со всеми такой.
— А ведь ты сам хотел смазать его по роже.
— Ну да, — сказал