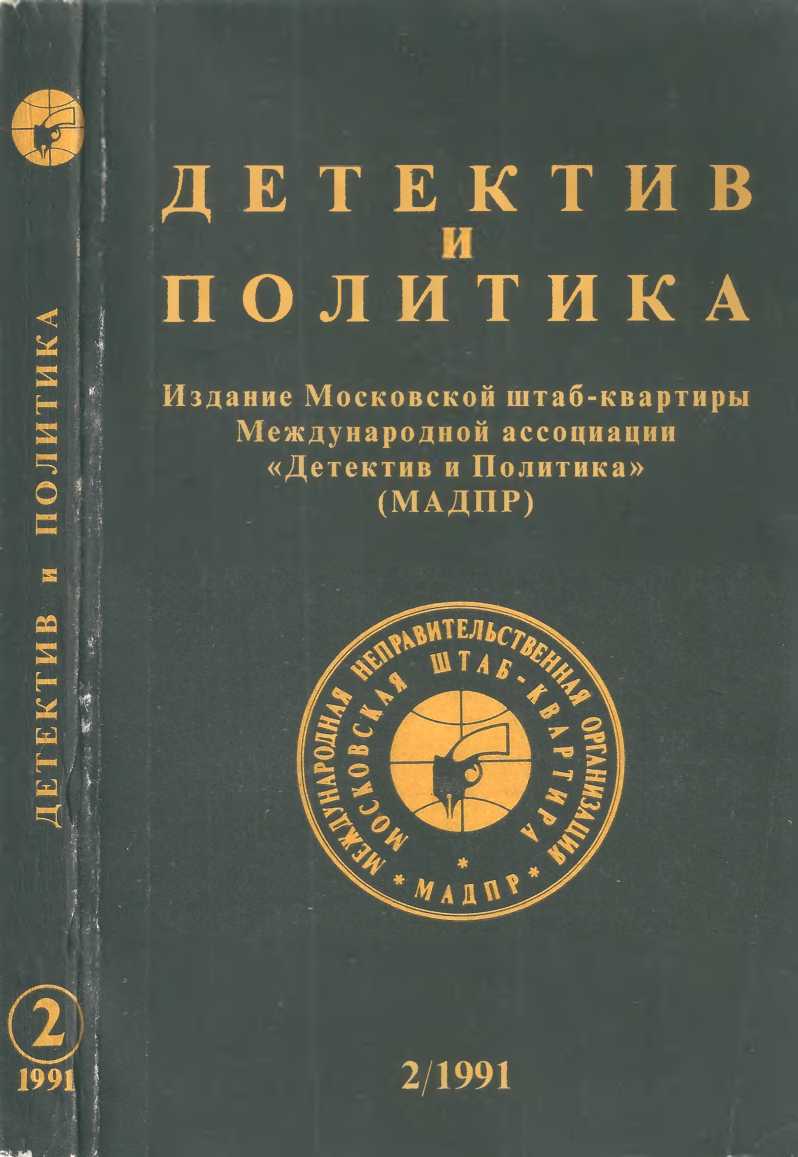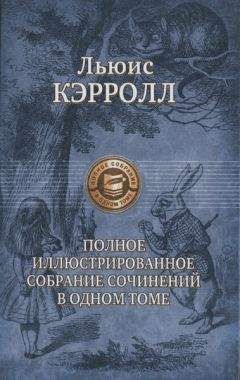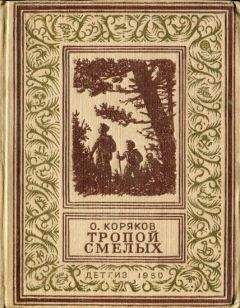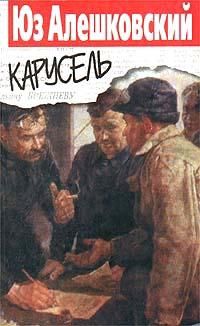том, чтобы стать сутенером в святом городе, казалась мне незатасканной, но я слишком хорошо знал Еву. Я знал, что еженощно после тяжелой своей работы она будет прыгать ко мне в койку, уверенная, что я буду цацкаться с ней, как с монашенкой; так оно и будет, потому что для них это способ очищаться. Увы. В этом смысле все они одинаковы и ни для кого не делают исключений.
Это тяжелый кусок хлеба, а они — бабы крутые, жесткие, куда жестче наших жен и дочек или матерей. Сколько мы ни ходили с Евой, всегда только по главной улице, хотя я не раз принимался объяснять, что куда приятней ходить по боковым улочкам и что пальмы там напоминают мне о Палермо. Но это ей было все равно, и, повиснув у меня на руке, она вместе со мной протискивалась сквозь толпу, останавливалась у витрин, читала вывешенные на дверях ресторанов меню — пусть все видят, что у нее тоже есть свой мужик, свой собственный негр, и, значит, она может поплевывать свысока на презрение света. Этим негром был я. Повторяю: это черствый кусок хлеба, тут нужны крепкие зубы и хорошая кровь. Я, например, никогда не мог разобрать, сколько человек побывало у нее в постели: пять, десять или все двадцать, а она словно наперед знала, если мне случалось сделать ходку налево. Размышляя об этом, я шел по улице Бен-Иегуда в первом часу дня, термометр показывал сорок градусов в тени, а меня била лихорадка. Только позже, в гостинице, вернулось ко мне хорошее настроение. Я любил глядеть, как, скинув с себя цветастые тряпки, она ходит по каменному полу и курит сигарету за сигаретой. Она была изящна, как кошка, и знала об этом. Ноги длинные, грудь — как у негритянки и ангельское личико. Только глаза были угрюмые, злые, словно прокляла она всех и вся. А имя было хорошее: Ева. Я лежал на чистой, шуршащей простыне и глядел на нее; я уже порядком устал, тоже свидетельство в ее пользу: не каждая женщина может в сорокаградусную жару измучить мужчину, к тому же мужчину, не евшего по-человечески целых два месяца.
— Хамсин идет, — обратилась ко мне Ева.
Я встал, завернулся в простыню и подошел к окну. И правда, море потемнело, а пыльные деревья на улице казались изваянными из гипса; деревья и их тени — все замирало. Люди быстро прошмыгивали, стараясь проскочить под низкими маркизами лавок.
— Он может продлиться все пять дней, — сказал я.
Глядя вниз, на улицу, Ева сказала:
— Поедем со мной в Иерусалим.
— Не поеду.
— Сдохнешь ведь тут.
— Ничего. Не сдохну.
Она подошла к постели. Легла, сложив руки под головой. Я закрыл окно. Если надвигается хамсин, так вроде полегче. Полегче, но все равно можно сойти с ума. Я еще раз глянул вниз, на улицу; даже на пятом этаже чувствовался поднимающийся снизу жар раскаленного асфальта.
— Мы первый раз в этом номере, — сказал я. — Почему ты не попросила портье дать Нам нашу прежнюю комнату на первом этаже?
— Да ну ее, — сказала она. — Там напротив поселилась старая дева. Знаешь, такая застенчивая фанатка секса. А я не люблю доставлять удовольствие задаром.
— Тут лучше, — сказал я. — Видно полгорода. И море. И Яффу.
— В Иерусалиме еще лучше, — сказала Ева. — В полдень слышно, как с мечети призывают верующих на молитву.
И совсем другим тоном:
— Но ведь тебе не хочется ехать, верно? Может, и говорить об этом не стоит?
— Не стоит.
— Не хочешь жить со шлюхой, — сказала она. — Видно, думаешь найти себе кого-нибудь получше. Ерунда. Ничего у тебя не выйдет. Все бабы — шлюхи, а все мужики — клиенты. Это и есть любовь. Но ты не будешь клиентом. Ты будешь сутенером. А впрочем, не все ли равно.
Шлюхи считают своим долгом все описывать в самых мрачных тонах, не понимая, что их мысли никого не интересуют. Ум у них девственный, будто природа решила хотя бы этим возместить их утрату. Я замечал также, что они ужасно любят рассуждать о похоронах и о смерти и с поистине детским упрямством цепляются за свои представления о смерти и о своем теле, почивающем среди цветов и оплаканном товарками.
— Мне нужно всего триста фунтов, Ева, — сказал я. — Одолжи или дай так. Ведь у Гриши жена и ребенок. Подумай о ребенке.
— А жена у Гриши красивая? — спросила Ева.
— Не знаю. Пожалуй, красивая.
— Ну так приведи ее завтра вместе с Гришей, — сказала Ева. — И пусть оденется понарядней. А вечером будут у вас триста фунтов. Я ей помогу. Мне тоже в первый раз помогла одна такая, как я.
— Если ты меня любишь… — начал я.
— Дам. В Иерусалиме, — сказала она. — И не триста фунтов. А три тысячи. А может, и больше. Днем будешь ходить плавать, а по вечерам будем развлекаться вместе. Но в Иерусалиме.
— Гриша скорее ее убьет, — сказал я.
— Но на меня-то Гриша согласен, так? Он у тебя хороший друг, даже не спросит, откуда деньги, чтобы ненароком тебя не обидеть. Он любит жену, ты любишь меня, так какая тебе разница?
— Хочешь посадить меня на диету? Да, Ева? — сказал я.
— Я тебя люблю, — сказала она. — Шлюхи тоже могут любить. Если не веришь, спроси у Гришиной жены.
Ну вот, все они такие. Как упрутся на своем, с места не сдвинешь. Жизнь для них — драма, скука им неведома.
— Давай больше не будем говорить об этом, — сказал я. Лежал рядом с ней, и снова охватывал меня жар, и я тщетно пытался не думать о толстом, потном, терпеливом человеке, дожидавшемся ее в кафе.
— Я у тебя первый, — тихо сказал я.
Она промолчала, и я почти крикнул:
— Первый! У тебя не было никого, кроме меня. Ни разу в жизни.
Она молчала; я изо всех сил хлестнул ее по лицу — раз, другой, и тогда она сказала:
— Да.
Потом Ева ушла, а я немного вздремнул. Меня разбудил голос, доносившийся из-за стены. Набожный сосед молился вслух. Я лежал тихо, прислушиваясь к молитве. Он, похоже, был стар, чувствовалось, молитва утомляет его, часто ему не хватало слов. В этом было что-то жуткое и по-настоящему высокое, и я лежал неподвижно, зная, что никогда не забуду ни этот день, ни молитву за стеной, ни голос старика, которого я ни разу не видел и никогда не увижу. Снаружи творилось что-то страшное, сейчас хамсин чувствовался и здесь, в комнате; я задыхался, у меня тяжело колотилось сердце.