посмотрел на меня.
— Видите ли, Евгений Семенович, — сказал он, — каждый месяц, каждую неделю мы получаем десятки сенсационных сообщений о том, что где-то кто-то открыл чудодейственное средство, которое уже поставило на ноги десятки безнадежных раковых больных. И если, мол, мы не полные бюрократы, не враги человечества, то обязаны срочно оставить все свои дела и заняться этими великими панацеями. — Он говорил медленно, негромко и сочувственно смотрел мне в глаза. Нам пишут грозные, гневные письма, нам кричат: «Вы же не научились стопроцентно лечить больных, — значит, прислушайтесь к тому, что говорят простые, необученные люди, неспециалисты, сам народ... Может, деревенская бабка скорее откроет вам глаза, чем все ваши умные ученые книги...» Мы знаем, что чаще всего это бред, ерунда, шаманство, в таких бабских методах нет ни капли ценной информации, а если и содержат они что-то рациональное, то обычно, это давным-давно уже известно науке. Как, кстати, известны в принципе белковые растворы из змей и пауков, создающие некий стимулирующий эффект... Но мы читаем эти наивные, невежественные письма и понимаем, что их авторы имеют право так писать, они должны так писать, в конце концов, они хотят одного-единственного, чтобы рак на земле был побежден, и желание это, в чем бы оно конкретно ни выражалось, уже благородно, уже свято и заслуживает самого человечного отношения. Так или нет, Евгений Семенович?
Я кивнул.
— Тем более, — он вздохнул, — эти люди в одном, по крайней мере, совершенно правы: пока окончательная разгадка рака не найдена, многие очень странные на первый взгляд идеи могут оказаться ближе к цели, чем мы думаем.
Он продолжал задумчиво, сочувственно смотреть на меня, но вдруг обернулся к моложавому ученому.
— Честно говоря, Осип Гаврилович, — сказал он, — я не вижу большой проблемы, прежде мы разгадаем механизм воздействия или начнем прежде лечить больных... Если удастся создать стерильно чистую среду, если будем уверены, что людям не навредим, почему бы и не начать лечить? Спор, — он неодобрительно пошевелил пальцами, — несколько, что ли, отвлеченный, философский. Сложность совсем в другом, — директор опять осторожно посмотрел на меня. — Вот всего этого, — сказал он и мягко опустил ладонь на мои бумаги, — еще совершенно недостаточно для клинических испытаний.
— Совершенно верно, — с готовностью сказал я.
Он кивнул: очень хорошо.
— Надо еще работать и работать. Сейчас кажется: достаточно решить проблему стерилизации, и все будет в порядке. Иллюзия! Найдем способ стерилизации — вынырнут десятки новых, неожиданных проблем. То, что сегодня кажется ясным и понятым, станет, наоборот, неясным и непонятным... Так ведь обычно случается, верно? Стало быть, без основательного лабораторного этапа, сами понимаете, никакая клиника пока невозможна. Правильно?
— Конечно, — сказал я.
Он обождал минуту и продолжил:
— Стало быть, давайте уточним, Евгений Семенович: в чем же состоит сегодняшняя ситуация? Вы приезжаете к нам и говорите: «Я знаю, какой у вас в институте тяжелый, напряженный план, как он забит важными, крупными темами, от которых, надо думать, следует ждать гораздо большего, чем от этих малоизученных, экстравагантных пауков... И все-таки хоть из кожи вон лезьте, крутитесь как годно, но найдите время, силы, средства, чтобы заняться этими пауками, потому что обнаружены некоторые интересные факты, мимо которых мы с вами, врачи и ученые, не имеем права пройти». Так или не так, Евгений Семенович?
— Так, — сказал я. — Именно так.
— Ну что ж, — кивнул он, — по крайней мере, хоть внесена ясность.
Я ждал, какое же он примет решение. Эта длинная речь — вежливый отказ или принципиальное согласие?
— Ладно, — сказал он, — оставьте материалы. Поглядим. Подумаем. Взвесим...
— Спасибо, — сказал я.
— За что спасибо? Рано говорить спасибо.
— Только избавьте нас от визитов самого знахаря, — решительно произнес моложавый. — Замучит!
— Да, да, пожалуйста, — поддержал его директор. — Это верно. Помощи не будет, а — натерпимся. Все контакты только через вас. Договорились?
— Хорошо. Я постараюсь, — сказал я. — Еще раз большое спасибо.
Назавтра поздно вечером я вернулся домой с вокзала.
Долго стоял под душем, грел чайник, уткнувшись в газету, жевал бутерброды... Ложась в постель, принял двойную дозу люминала и провалился в сон.
Разбудил меня звонок в прихожей. Сперва робкий, осторожный, потом зазвонили долго и настойчиво.
Как был, в пижаме, я вышел в переднюю.
На пороге стоял Рукавицын.
Пальто в снегу, ворот расстегнут, шарф волочится по полу.
— Добрый день, — вежливо сказал он.
Я не ответил.
Не раздеваясь Рукавицын вошел в комнату, сел на стул. Карманы его пальто сильно оттопыривались.
— Который час сейчас, знаете? — спросил я.
Он отрицательно покачал головой.
— Я уже спал. Наглотался снотворного. Бесцеремонный вы человек.
Он улыбнулся. Рассеянно.
Таким я его никогда еще не видел. Вряд ли он слышал, что я ему говорю.
— Ну что? — спросил я. — Что вы хотите?
Неожиданно он засмеялся. Странно как-то. Будто нехотя.
Куда девалась вся его спокойная барственность? Его ленивое добродушие. Что-то необычное творилось с ним сейчас.
— Понимаю, Николай Афанасьевич, — сказал я. — Хотите, очевидно, знать, что решили московские ученые? Они займутся препаратом. Непременно. И сообщат нам свои выводы.
Он недоверчиво посмотрел на меня.
— Когда?
— Не знаю. Как смогут.
— Тянуть нельзя. Люди ждут.
— Конечно. Это ученые понимают.
Он не уходил. Сидел не шевелясь. С башмаков его на пол натекли две темные лужицы.
— А где бумаги? — спросил он.
— Какие?
— Что брали в Москву. Результаты опытов.
— В институте, понятно.
— Эх, не надо было оставлять, — сказал он.
— То есть как? Почему же?
Он не ответил.
Снял шапку, пригладил волосы и еще глубже нахлобучил ее на затылок.
— Спокойной ночи, Николай Афанасьевич, — сказал я.
Он не пошевелился.
— Николай Афанасьевич, — повторил я, — спокойной ночи.
— Погубят они препарат, — лениво, без особой даже злости, сказал он.
Мне ужасно хотелось спать. Две таблетки люминала все-таки.
— Глупости, — возразил я. — Разумный человек, а говорите глупости...
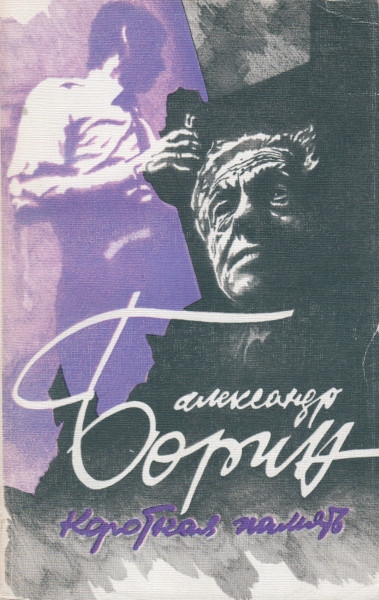
![Александр Гаррос - [Голово]ломка](https://cdn.my-library.info/books/188081/188081.jpg)



