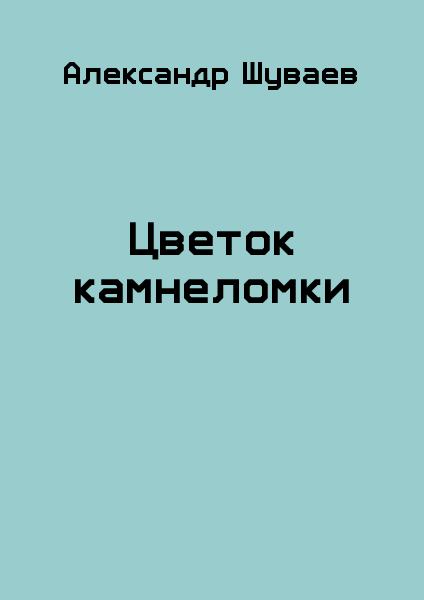к добру, и было, было уже в тыща девятьсот сорок первом, не давала спать и ночью. Сон казался этой ночью прямо-таки расточительством, поэтому и ночью вдруг возникший в степи стан сдержанно гудел, звенел гитарным звоном и зудел какими-то степными инструментами, а на берегу Самары поодаль друг от друга, но все равно тесно сидели парочки в сумерках и компании, освещенные светом костров. И – диковинные попадались среди компаний, на любой взгляд, кроме привычного взгляда собравшихся. Люди постарше при свете импровизированных источников света шлепали картами по импровизированным столам, пили вино, но сама структура момента не давала пить слишком много даже тем, кто был склонен увлекаться. Не в этот раз. Завтра или вообще потом. Потому что чуть ли ни в первый раз в жизни каждого из собравшихся было это: громадное многолюдье, ровное коловращенье гигантских масс народа под бездонным небом ранней осени – без всякой войны и беды, просто так. Хотя отдельные исключения, понятное дело, бывали.
– Эй, молодежь, чего набычились, – голос у самого крупного из четверки дедов был под стать сложению, как медвежий рев, – кулаки чешутся? Хорошее дело. Но токмо не сегодня. Вот мы ж с ним, – он чуть приобнял одетого в темный блескучий халат сухонького узкоглазого старичка с козлиной бородкой, – не деремся. Хотя могли бы. Завтра на игрищах удаль покажете, понятно?
– Засем драца? – Подтвердил сухонький старичок, выбравшись у него из подмышки. – Совсем худое дело, тьфу!
И, в подтверждение своих слов, он, сморщившись, с ожесточением плюнул.
– И это, – вступил в разговор третий, с подбритыми висками и усатый, белевший в сумраке рубахой, – всем другим то ж гуторьте: договор. Вот как начнет дело доходить до горячего, так и скажете: договор мол.
– Ну и что? – Проговорил из тени дерева кто-то почти невидимый. – Кто слушать-то будет?
– А вот хоть ты послушай. Послушай, и попробуй как это, – не бояться других и самому не быть вероломным. Хоть раз в году.
– Да нам что, мы – пожалуйста, – раздался еще один уклончивый голос, – но только чего они…
– Договоритесь, – и потом выясните, чего они. Ибо сказано: нечестив тот, кто рушит пир, а рушащий договор не стоит разговора с ним.
– Вы слушайте батюшку, – прогудел огромный старик, – он у нас не чета другим-прочим…
– Ладно, – проговорили в тени, – до другого раза отложим, попробуем. А пока будем считать, что этого разговора не было.
Хотя отдельные исключения, понятное дело, бывали.
Дорожники совершили невозможное, и осеннее солнышко, выкатившись из-за горизонта, осветило ласковым, теплым, но все-таки неуловимо усталым, осенним светом новехонькую, – и существенно расширенную, – мостовую, а какая-то сволочь на временном радиоузле то ли расчувствовавшись, то ли по глупости, то ли и впрямь с неким умыслом врубило со всей мочи: "Утро красит нежным цветом…" – и это некоторое время терпели, но потом мотив оборвался гнусным визгом, и действо началось.
Первыми на площадь перед трибунами вырвалась молодежь на мотоциклах. Сначала раздался глухой вой и мрачный звон, а потом показались они. Люди, которые садились в седло года в четыре, если не в три, получая многочисленные подзатыльники от отцов и старших братьев, что не оказывало на них особенного действия. В разноцветных куртках и шлемах, угрожающе склонившись вперед, с лицами, укрытыми под глухими очками, они проносились по площади, как конные сотни орды Чингис-хана, плотными стаями машин по тридцать, слитно, чуть ли ни локоть к локтю, неразрывно держа строй, напоминающий летящую птицу, либо же серп выпуклостью вперед. И – исчезали, будто видение. Череда их была долгой, но когда вдали растаяла последняя из стремительных машин, на площадь вступили основные силы. С глухим, всепроникающим гулом покатились бесконечные колонны тракторов, и земля дрожала мелкой дрожью под непомерным грузом техники. Они двигались, понятно, без идеальной четкости строя, но и, тем более, не наезжая друг на друга, потому что народ тут собрался в высшей степени привычный, куда там армейским водителям мирного времени. Конец колонны терялся в дали, но когда она, наконец, кончилась, за тракторами под громовое шипение и свист последовали еще более многочисленные грузовики, специально ради праздника отмытые, вычищенные и битком набитые приодевшимся народом. Время от времени поток машин прерывался и перед трибунами проходили отчаянно блеющие, мычащие, ржущие стада, табуны и отары породистого скота, и до собравшихся доносился крепкий запах навоза. Следом шла шеренга устройств для уборки улицы, и снова тянулись бесконечные вереницы тракторов и еще грузовики, а конца колонне техники не было видно, от нее ощутимо тянуло ровным, устойчивым теплом, как от нагретых камней. По в такт открываемым ртам было видно, что в иных из грузовиков пытаются петь хором, – под жесты стихийного дирижера или просто так, – но, понятное дело, до трибун не долетало ни звука. Вопрос еще, слышали ли себя сами певцы.
– М-мамочки, – побледневшими губами проговорил Первый Секретарь обкома, глядя на проплывающую перед ним, необозримую массу народа, техники и мяса, – да во что ж это мы вляпались-то? Что затеяли-то, гос-споди?!
Он говорил сам с собой, в душевной тоске и тихой панике от совершенной непомерности творящегося перед ним стихийного явления, – явно неуправляемого! – но его услышали находившиеся тут же, на трибуне для почетных гостей, официальные лица из центра. Трудно сказать, чего именно ждали они, – тихой сельской ярмарки, официального торжества, мероприятия, проводимого для галочки, поддатых тружеников села, по приказу начальства согнанных на демонстрацию, натужного веселья, – но, во всяком случае, не такого вот явления жуткой, стихийной, саму себя организовавшей мощи. Подобного рода информация противоречила самим принципам планового хозяйства. Так что один из столичных гостей даже стал делать знаки телевизионщику, наводившему свою камеру с мрачной решимостью инженера Гарина, а когда тот либо не понял, либо не обратил внимания, придвинулся к нему вплотную. Расслышать что-либо с такого расстояния было, разумеется, совершенно нереально, но усиленная артикуляция позволяла без малейшего труда угадать, то самое, заветное, насквозь родное:
– Ты давай того, – закругляйся… сворачивай на хер свою трехомудию, говорю!
Это не было похоже на военный парад. Куда больше это напоминало переброску хорошего войскового соединения, этак, – полнокровной ударной армии или чего-то в этом роде. Только