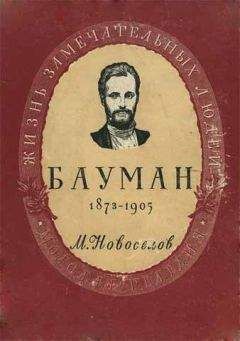На-ко-нец!!
В первый раз за всю игру банк завязался. До этого банки срывали по первой, второй, третьей руке, в первом, втором, самое большее — третьем круге. Сейчас жандарм метал уже седьмой круг.
Он метал исступленно, вздыбив распущенные свои усы, дыша тяжело, жарко и плотоядно, и бил беспощадно и круто все карты партнеров подряд. На чемодане, поверх рассыпавшихся в единую груду поповских стопок, до последней перекочевавших с дивана на чемодан, топорщились мятые кредитки в пух и прах проигравшегося земца: в банке было уже около двухсот рублей.
— Делайте игру!
Земец, покачивая головой, положил две двадцатипятирублевки. Бауман сунул нарочито скрытым движением — последний свой желтенький рубль под пухлый, на самом виду лежавший бумажник, из которого — соблазном жандармскому глазу выдвинулась черным матерчатым уголком паспортная книжка.
— Сыграю втемную: может, так повезет. Куш — под бумажником.
Поп подумал, оттопырив губу, и сказал неожиданно и четко, уверенным и гулким амвонным голосом:
— По банку. С входящими, — и выложил на чемодан три хрустящие радужные сторублевые бумажки, отделив их от толстой пачки, один вид которой заставил одинаково дрогнуть почтеньем и завистью глаза жандарма и земца.
В купе стало тихо. Банкомет, прижмурив правый глаз, заглянул в свою карту, чуть приподняв ее уголок: авось девятка, восьмерка-это в макао старшая карта, бьет всех.
Нет!
Ротмистр вздохнул:
— Даю прикупку.
Земец купил, И задумался над прикупленной картой. Игра крупная: идти на риск-купить еще, третью, в надежде докупить до девятки, или так и остаться, как есть, на пяти?
Поп, ерзая, поглаживал ладошкой растопыренную свою бороду.
Бауман встал:
— Я-на своей, прикупать не буду. Простите. Я отлучусь на минутку. Уборная направо?
— Фуражечку возьмите, — протяжно сказал поп, следя за нервно затеребившими колоду пальцами ротмистра. — Очень там холодно.
— Не стоит. Я на секунду. Не откажите открыть мою карту при розыгрыше, если я сам, паче чаяния, не поспею.
Талия заметана: банкомет не может встать. Перерыв сейчас невозможен. На этом и был построен баумановский расчет. Прервать игру сейчас — это значит, по правилам игры, уступить банк без боя. Четыреста рублей? Жандарм скорее удавится, чем бросит такую сумму.
Бауман шагнул к двери. Он не видел ротмистрского лица. За спиной голос земца сказал взволнованно и хрипло:
— Дайте еще.
И тотчас пискнул испуганно, испугом своим заставив взыграть жандармское сердце, амвонность свою потерявший перед выброшенной на стол пиковой дамой поп:
— Прикупаю закрытую.
Коридор был пуст. Бауман, неслышно ступая по ковровой дорожке, пошел вправо, миновал уборную. Площадка… Он рванул железную, тяжелую, обмерзлую дверь. Она не поддалась. Заперто?.. Выбираться на буфера?.. Он снова налег на ручку. От второго бешеного рывка дверь распахнулась взвизгнув. Дохнуло морозом, замельтешил перед глазами чахлый, снегом к болоту пригнутый лесок. Грач соскользнул на нижнюю ступеньку, оттолкнулся что было силы — и прыгнул…
— Восьмерка? Ваше счастье, отец святой. Жандарм, играя в равнодушие, бросил трясущимися руками колоду на чемодан. Поп отгреб к себе кредитки и мелочь, жадно приподнял баумановский бумажник и хихикнул, брезгливо ткнув пухлым пальцем потертую, истрепанную рублевку:
— Тоже- играть садится… А еще чиновник!
Но ротмистр не слушал. Путаясь звенящими шпорами, он перешагнул через чемодан, разметывая полами шинели проигранный банк. И тотчас на звон его шпор в дальнем конце, у левого выхода, забряцали ответные шпоры: из служебного отделения поспешно вышли два жандармских унтера. За ними вывернулся вертлявый и обтрепанный филер, пряча в воротник воровское и испуганное свое лицо. Ротмистр нахмурился, дал им знак и повернул в противоположную сторону, к уборной. Уже на половине коридора догнал его лягавой рысцой, опередив солидно шагавших жандармов, охранник.
Ротмистр нажал ручку.
Дверь в уборную открылась. Пусто.
Он обернулся. У агента от ужаса вылезли на лоб глаза.
Офицер спросил коротко и глухо:
— Где?
И, не дожидаясь ответа, ударил шпика тяжелым и зверским ударом в зубы.
Снег-глубокий, поверху пушистый и рыхлый, недавний — ослабил удар. Грач удачно скатился по откосу высокой насыпи в наметенный вдоль лесной болотистой опушки сугроб.
Как только отстучал последними своими колесами поезд, он поднялся на ноги. Еще гудело глухим, напряженным гудом в висках, поламывало в колене, в плечах, груди и к горлу — от толчка, должно быть — подступала горькая, щекочущая тошнота. Но уже радостью яснело сознание: вывернулся!
Как в «Колобке» сказ ведется:
Я от бабушки ушел,
Я от дедушки ушел,
От тебя, серого волка, и подавно уйду.
Вправо, влево, впереди, куда ни глянь — реденькие по болоту, безлистные, обхлестанные ветрами, кривились березки. Мороз жестоко хватал за голову и голые руки. Грач достал из кармана шубы мерлушковую круглую шапку.
«Стой! Надо сообразить».
Двери вагонов открыты все в эту, правую сторону. Если будут искать-или, лучше сказать когда будут искать — бросятся в эту сторону прежде всего, на этом перегоне. Надежнее, стало быть, перекинуться на ту сторону полотна. Тем более что… надо попробовать уйти совсем с этого направления, выйти к полотну Юго-Западной, проехать в Елец, а от Ельца до Москвы уже не так сложно добраться.
Да, ведь денег нет. Ни гроша, кажется. Все, что было, просадил в вагоне себе на выкуп.
Грач усмехнулся. В общем, все же недорого обошлось: всего пять рублей и было в бумажнике. Грач пошарил по карманам. Нет. Ничего. В кошельке и смотреть нечего, он хорошо помнит, двадцать пять копеек.
Все равно. Надо идти. По дороге что-нибудь придумается.
Вытряхнув из рукавов, из-за воротника набившийся при падении снег, уже растекавшийся холодными струйками по разгоряченному телу, он поднялся на насыпь. По ту сторону, как и по эту, тянулся лес. Но Грач не спустился: не надо оставлять лишних следов. Он зашагал по шпалам назад, в направлении на Воронеж. И шел до тех пор, пока справа от него не открылась к лесу еле заметная, темной змейкой нырявшая в снег, узенькая, в один след, тропка. Он свернул на эту тропу и пошел как можно быстрей, во весь мах, старательно ставя ноги в глубокие ямки, втоптанные чьими-то широкими и тяжелыми валенками. След был давний: не часто здесь, наверное, ходят. Тем лучше. При побеге нет ничего хуже, опаснее встреч. Надо идти безлюдьем — до последней крайности.