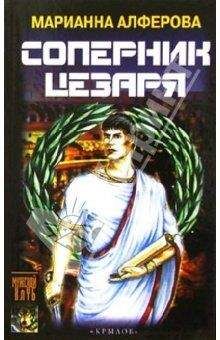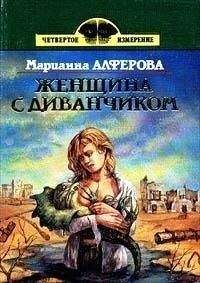Прежде чем приступить к делу, квириты непременно требуют показать кошелек — иначе на поле не пойдут. Зачем им даром проламывать соперникам головы и рисковать собственной шкурой ради того, чтобы какой-то богач из знати сделался консулом или претором и в будущем имел шанс добраться до обильной кормушки?
Правда, и бедноте в этот раз кое-что обещали — землю отцам троих детей и ветеранам Помпея. Но поскольку речь шла о разделе общественного поля в Кампании — земли на удивление плодоносной, то дело продвигалось медленно. Вернее, никак не продвигалось.
В Календы[88] марта был принят закон, по которому Цезарь становился наместником провинции Галлия сроком на пять лет. Да еще получал право набрать и содержать за счет казны три легиона. Да, очень удачно умер Метелл Целер.
Публий Клодий лично явился во главе своих многочисленных клиентов на выборы в этот день. Ветераны Помпея прибыли в Город голосовать, но их оказалось куда меньше, чем ожидалось. Так что от людей Клодия многое зависело. И они не подвели. Цезарь получил все, о чем мечтал, — то есть Цизальпинскую Галлию, Иллирию и три легиона. Сенат, понадеявшись, что Цезарь сломает шею в этой опасной стране, добавил консулу еще Нарбонскую Галлию и один легион в придачу к прежним трем.
Вскоре и Клодий получил желаемое — усыновление и возможность выставить свою кандидатуру в народные трибуны.
Солнце уже медленно скатывалось за Яникул,[89] но Город по-прежнему изнывал от жары — припозднившаяся весна внезапно обернулась знойным летом. С утра ждали грозы, но небо оставалось чистым. Лишь то и дело налетал сильный ветер и гнал пыль по узким улочкам, с дерзкой зловредностью бросая песок в лицо.
Гай Клодий, клиент, вышел из дома, обряженный в белую шерстяную тогу. Вокруг бурлила толпа, все куда-то спешили: рабы — с рынка, сгибаясь под корзинами фруктов для хозяйского десерта; господа в носилках — к друзьям или любовницам; флейтисты и актеры — развлекать нобилей на пиру. Метались по незнакомым улицам путешественники, только что успевшие добраться до столицы, — их можно было безошибочно определить в толпе по растерянным взглядам и по тому, как судорожно хватались новоприбывшие за кошельки. Не обращая внимания на суету и шум, ремесленники и торговцы занимались своим делом: булочники пекли хлеб и выставляли на прилавки под кожаными тентами, в тавернах готовили бобовую похлебку, в большой комнате с отверстием в потолке сгорбились два десятка переписчиков-рабов. Из сыроварни доносился кисловатый запах сыра, а в соседнем доме вольноотпущенник-грек склонялся над каменной ступой и мельчил медным пестиком пахучие травы, а пальцем другой руки водил по ветхому свитку. На улице Аргилет сапожники тачали кальцеи, а в книжных лавках продавали стихи Катулла.
Гай Клодий злорадно подумал о том, что все эти люди скоро окажутся во власти Клодия, а значит, и его, клиента Гая, власти. И клиенту стало казаться, что он держит в руках сотни, тысячи ниточек и тащит людишек куда-то, а куда — неведомо. Впрочем, Гай никогда не задумывался — куда. Ему достаточно было сознания, что он распоряжается чужими судьбами.
Гай протискивался сквозь толпу, выставив вперед левую руку, прикрытую тогой, а правой, свободной, придерживал ткань на груди. Он спешил. Утром, явившись на салютации и узнав о готовящемся пире, он ожидал получить приглашение на обед. Но его не пригласили. Обидно, но поправимо. Главное — попасть в дом, а до стола клиент Гай доберется.
Еще у дверей Гай уловил умопомрачительные запахи, плывущие с кухни. Зосим встретил его в вестибуле, окинул насмешливым взглядом плохо уложенную тогу и мокрое от пота лицо клиента:
— Чего это ради ты обрядился в тогу? Замерз никак?
Гай отер платком лицо. Платок он прихватил побольше — чтобы можно было завернуть в него кусок курицы или ветчины, покидая триклиний.
— Так ведь пир… — Гай попытался заглянуть через плечо Зосима.
— Разве ты приглашен к столу?
— А то… — Гай постарался придать голосу как можно больше уверенности.
Он отстранил Зосима и прошел в атрий. Вольноотпущенник, наглая морда, смеет ему указывать, что и как! Книжонку сочинял — не сочинил, жить пытался отдельно — не смог, вернулся назад в услужение и теперь выпячивает грудь.
В атрии было прохладно. С первого взгляда видно, что в доме готовились к приему именитых гостей, всю копоть от светильников и жаровен, что дымили зимой, смыли губками, начистили бронзовые капители колонн, начистили и светильники, и бронзовые скамьи. На специальных подставках сверкали, будто золотые, сосуды из коринфской бронзы. По бокам мелкого бассейна с зеленоватой дождевой водой установили двух серебряных дельфинов — якобы тех самых, что прежде принадлежали Гаю Гракху. Скорее всего, этих дельфинов год или два назад сработали в Капуе, но, готовясь к карьере народного трибуна, Клодий придавал покупке дельфинов особое значение. Трех человек он не позволял ругать в своем присутствии: своего отца Аппия Клавдия и знаменитых народных трибунов.
Клодий в желтовато-белой тоге, еще ни разу не стиранной, так что ткань лежала особенно пышно, собирая в складках легкие голубые тени, стоял посреди атрия. Подле хозяина был лишь плебей Фонтей, тоже в тоге, вспотевший, красный, с маленькими, маслянисто блестевшими черными глазками — судя по всему, парень успел уважить Вакха. Да и как же иначе? Фонтей усыновил Клодия, тем самым патриций из рода Клавдиев перешел в род Фонтея и сделался плебеем. Сбылось то, о чем так давно мечтал Клодий и чему яростно сопротивлялись покойный Метелл Целер и большинство оптиматов. Один Цезарь был на стороне Клодия. Цезарь и толпа — они всех пересилили. Помпей уступил, патриции смирились. Все были ошеломлены дерзостью Клодия Пульхра. Потомок самого консервативного рода, чьи предки смертельно враждовали с народными трибунами, так враждовали, что один другого буквально сживал со света, вдруг оставляет свой патрицианский, уважаемый род и переходит в род ничем не примечательных Фонтеев. И ради чего? Чтобы получить на год — всего на один год! — власть народного трибуна. Очередное безумство сумасброда — чего еще ждать от человека, который совершил святотатство, чтобы удовлетворить похоть? Многие вообще не верили, что Клодий затеял это дело с усыновлением всерьез, наверняка, говорили они, это один из тех нелепых слухов, что нынче гуляют по Риму, то затихая, то набирая силу, но никогда не исчезая. Их разносят сплетники-египтяне или интриганы-александрийцы. Чернь, болтающая по-гречески или на ломаной латыни, на рынках, в лавках обсуждает дела, что творятся на форуме. Эта чернь ничего не понимает ни в римских законах, ни в римских обычаях, но уверена, что может судить Рим по своим собственным стихийным законам. Восток наступал на Рим после своего военного поражения: окуривал благовониями, окутывал драгоценными тканями, угождал яствами, обволакивал развратной ленью, нежа, теша, искушая сурового победителя. А победитель по старой привычке считал себя сильным, смелым, суровым, закаленным в боях.
Но вышло, что болтали на Бычьем рынке и верфях правду, и Клодий, тридцать два предка которого побывали консулами, пятеро — диктаторами, а семь — цензорами, сделался плебеем.
Но Клодий ни о чем не сожалел. Напротив, он казался вполне довольным, почти счастливым. Он похлопал двадцатилетнего Фонтея по плечу и спросил:
— Ну как, дорогой отец, тебе нравится у меня? Ты никак волнуешься? Переживаешь, что придется подчинять своей отеческой власти такого знаменитого сына?
— Есть немного, — срывающимся голосом ответил плебей.
— Не стоит тревожиться! Я буду хорошим сыном. Почтительным. И тебе незачем приходить ко мне по утрам, как ты явился сегодня, — а то решат, что пришел на салютации. Сами боги благоволили к нам: все знамения благоприятные, да и как же иначе, если за полетом птиц следил авгур Гней Помпей Великий! Уж он постарался, чтобы усыновление прошло успешно. С тех пор, как он женился на дочери Цезаря, Великий сделался послушным, как ребенок. Им теперь управляет женщина. — И добавил после паузы: — Очень красивая женщина. — Фонтей захихикал, но тут же примолк: новоявленный сынок бросил на него воистину бешеный взгляд. — Скоро Помпей и Цезарь прибудут, не стоит в их присутствии так смеяться.
— А я? — выступил вперед клиент Гай, найдя, что момент удачен.
— Тебя не приглашали.
— Разве мне уже нет места? — Гай всегда претендовал на особую милость патрона.
— Сегодня слишком жарко, чтобы обедать внизу, в большом триклинии. Я велел накрыть наверху, в летнем помещении, а там только три ложа. Ты зван на пир завтра. Или ты дни перепутал?
«Ага, завтра на стол подадут объедки сегодняшнего», — обиженно насупился Гай.