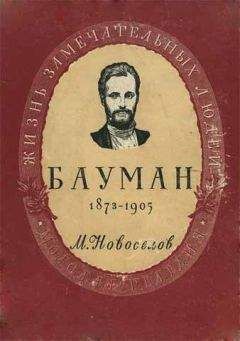— Ну так что?
— Опасно. Выполнить-то заказ — выполнят, а потом могут выдать. Ведь все-таки взломщики, воры, убийцы… В последний момент могут продать… Нет! Надо что-нибудь понадежней придумать… Ты бы, между прочим, заснул пока. А то вечером, на балу, будешь кислым.
«Съезд» на бал начался еще с семи часов. «Съезжались» со всеми удобствами: из камер вытащили не только подушки, одеяла, но кое-кто даже и тюфяки. Как только стало темнеть, вынесли лампы.
Лежали — на одеялах и тюфяках — широким кругом, оставив в середине свободной площадку для танцев. Баумана уложили как «юбиляра» в первом ряду…
Хор — человек пятьдесят. Голос к голосу. В казенной киевской опере несравнимо слабее хор. Только женских голосов нет. Единственное, на что не пошел Сулима: объединить на прогулках женское и мужское отделения. Общего выбрать старосту разрешил — Гурский и женские камеры обходит. И цейхгауз разрешил общий; заведует цейхгаузом Литвинов: если надо повидаться с кем-нибудь из женского отделения, всегда можно устроить через него встречу в цейхгаузе.
Но и без женских голосов хор красив.
Славное море, священный Байкал…
Бауман лежит на спине, во весь рост. Смотрит в небо, в потемневший высокий далекий синий свод. Одна за другой зажигаются звезды…
Стройно и строго звучат голоса товарищей:
Эй, баргузин, пошевеливай вал…
До чего хорошо на свете жить!
Плыть молодцу недалечко.
— Сулима, — буркнул товарищ рядом, — пожаловал…
Сулима. Капитан. Начальник политического корпуса. Да, тюрьма!
Тюрьма. Ну так что ж? И все-таки всякой тюрьме вопреки хорошо на свете жить…
— Бауман!
Он приподнялся на локте.
— В программе бала очередной номер — твой. По традиции, каждый вступающий в наш круг обязан в первый вечер своего пребывания здесь рассказать сказку.
Бауман рассмеялся:
— Невозможное дело! Вы можете сделать из меня всё, что угодно, только не сочинителя. Я абсолютно в этом смысле бездарен: я неспособен двух строк придумать.
— Поможем, — успокоил Басовский. — Сказки, как нас учили, — продукт коллективного творчества. Ты только начни, а дальше уже пойдет. Запнешься будем подсказывать.
— Только не как в прошлый раз, господа! — жалобным голосом сказал откуда-то из темноты невидимый Сулима. Бауман сразу узнал его хрипловатый, пропитой голос. — Повторяю и предупреждаю: никак не могу допустить рассказов противоправительственных, хотя бы и в сказочном виде.
— Какое противоправительственное? — весело подхватил Литвинов. — Сказка всегда о том, чего на самом деле нет, а правительство пока на самом деле есть, иначе у вас не было бы кокарды на лбу и орлов на пуговицах. Не думайте то, что вы думаете, и все благополучно станет на место.
Из сумрака выдвинулось оскаленное лицо капитана.
— Вы, господин Валлах, известное дело, кого хочешь уговорите. Но поскольку сказка каждый раз поворачивает против его императорского величества…
Литвинов развел руками:
— Это уж не сказка виновата. Значит, договорились? Начинай. Грач! В некотором царстве…
— …в некотором государстве жил-был…
— …царь! — договорили кругом хором.
— Ну вот, видите, — разочарованно протянул Сулима, — опять царь!
— Надоело? — сочувственно спросил Бауман и покивал головой: — Нам тоже. Но в данном тексте я не собирался воспользоваться этим словом. Мы скажем так: жил-был замухрыга…
— Вот это другое дело, — сказал Сулима и поспешно отошел сквозь разомкнувшуюся шеренгу надзирателей, стоявших позади заключенных и внимательно слушавших.
— …малого роста, — продолжал Бауман, — высокого родства, большого скотства. Мертвым молился, на живых ярился. Умом был корова, но петух был здоровый, в отца пошел, а того даже мать родная с самого часа, как он родился, трезвым ни разу не видела. Ну, коротко говоря, идолище поганое. Только не ордынское, а ходынское…
— Лишаю! — неожиданно пискнул фальцетом высокий, срывающийся голос. — Мне господин начальник поручил… Не могу допустить. Вы что полагаете: мы вовсе без понятия, разобрать не можем, в какую особу нацелено?
— Какая особа — разговор особый; об этом, очевидно, дальше будет. Вы слушайте, а не перебивайте, господин старший надзиратель Ситковский, — сказал очень строго Бобровский. — Продолжай, Бауман!
И весь круг поддержал тотчас же в сто пятьдесят голосов:
— Про-дол-жай!
— Прошу прекратить! Начальника позову! — снова взвизгнул фальцет, и по плацу глухо затопали торопливые удаляющиеся шаги.
— Вот негодяй, Ситковский этот: вечно шпионит!.. Дальше, Бауман.
— Значит, жил вот такой-эдакий в полное свое удовольствие. Почему говорить не буду, всякий сам понимает. И вот случилось так в прекрасный один день: залетела ему в глаз искра.
Бауман заморгал, повел глазами по кругу. Голоса отозвались:
— «Искра»?
— Номер первый. Декабрь 1900 года. Российская социал-демократическая рабочая партия, газета «Искра». Эпиграф: «Из искры возгорится пламя!»… Ответ декабристов Пушкину.
— Литвинов, не перебивай!
Но Литвинов продолжал невозмутимо:
— Номер первый, страница первая. Передовица «Насущные задачи нашего движения». «Русская социал-демократия не раз уже заявляла, что ближайшей политической задачей русской рабочей партии должно быть ниспровержение самодержавия, завоевание политической свободы».
Из темноты в освещенный лампами круг качнулась с разгона подошедшая торопливо тощая сутулая фигурка Сулимы:
— Виноват, господа. Что это, Ситковский докладывает… В чем, собственно, дело?
— В Ситковском только. У нас — ни в чем, — успокоительно сказал Бауман и даже, для вразумительности, погладил собственное колено. — Я говорил и говорю, что этому… высокому господину маленького роста попала искра в глаза. И такая это оказалась особенная искра, что ни один лекарь не мог ее вытащить оттуда, ни один поп не мог отмолить, ни одна ворожея заговорить: жжет и жжет.
— Пожарную команду надо было вызвать, — посоветовал хмуро Крохмаль.
Красавец был вообще мрачен в этот вечер; похоже было даже на то, что встреча с Бауманом ему неприятна, хотя Грач ни полсловом не напомнил ни ему лично, ни другому, как он уже в самый первый день проваленной киевской конференции указывал Крохмалю, ночуя у него, на недостаточную конспиративность киевского подполья вообще и его, Крохмаля, в первую очередь. Вышла даже размолвка. Грач на следующий день перебрался в гостиницу. И все-таки от шпиковского наблюдения уже не удалось увернуться.