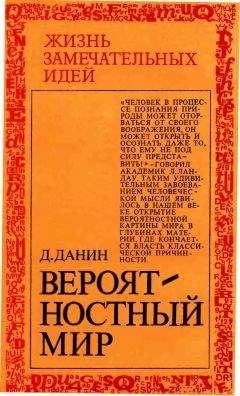Если закон, то, стало быть, не особенности квантовой теории мешают узнавать одновременно координату и скорость электрона, а сама природа не ведает этого. Она в своих глубинах обходится без однозначной причинности. Она и вправду — вероятностный мир.
Хотя сомнений в добропорядочности механики микромира у Бора и не было, хорошее рассуждение еще не могло служить строго выведенным законом. Но в снегах Норвегии Бор ничего не писал — ни научных писем, ни статей. Он не делал математических выкладок. И черной доски у него не было под рукой. Он только думал. И предчувствовал, и сознавал: такой закон есть!
…А Гейзенберг тем временем в Копенгагене довел до конца свои независимые выкладки. Он нашел предел, до которого природа разрешает сводить на нет неопределенность в координате и неопределенность в скорости электрона.
Да, в поведении микрочастицы есть обилие возможностей. И это обилие не может исчезать — сводиться к нулю, к однозначной точности. Предел совместному уменьшению неопределенностей ставило существование все того же минимального кванта действия h! Планковский «таинственный посол из реального мира» и здесь давал о себе знать.
Было утро во второй половине февраля 27–го года, когда на листе бумаги замаячила выведенная рукою до крайности возбужденного Гейзенберга коротенькая формула для связи двух «дельт» — двух неопределенностей:
∆A∆B ≥ h ( или ∆x ∆p ≥ h )
(Она читалась так: произведение неопределенностей в координате и в скорости — или в импульсе — частицы может быть больше кванта действия или равно кванту действия, но никогда не становится меньше него.)
В этой формуле сразу бросалась в глаза удивляющая закономерность: когда уменьшается неопределенность в координате, растет неопределенность в скорости и, наоборот, чем определенней делается скорость, тем менее определенной становится координата электрона.
Теперь математически понятной стала ненаблюдаемость орбит в планетарном атоме. По отдельности они могут быть достаточно хорошо наблюдаемы — координата и скорость электрона–планеты, но стоит только попытаться точно замерить одну из этих величин, как в тот же момент делается совершенно неопределимой вторая.
Коротенькая формула сообщала и о другом. Оттого что неопределенности выступают парами, они накладывают друг на друга узду. Разумеется, там, где есть место для множества вариантов поведения, там повелевает случай. Но закономерная связь между неопределенностями усмиряет господство случая своей мягкой властью. Случай в микромире — не произвол.
…Как и в мае 25–го года после Гельголанда, Гейзенберг решился изложить свою находку прежде всего старому приятелю Вольфгангу Паули. («Старому!» — обоим еще было не близко до тридцати!) Таких длинных писем первый, кажется, покуда не писал, а второй — не получал: 14 страниц научного текста — почти готовая статья.
Ответ из Гамбурга пришел еще до возвращения Бора из Норвегии. С необычной для него восторженностью, без иронии и яда, Паули назвал происшедшее на копенгагенской мансарде событие «утренней зарей». И восклицал: «Да будет отныне день в квантовой механике!»
Формула Гейзенберга получила скромное название —· соотношение неопределенностей.
А позже, оценив ее основополагающее значение, физики стали часто говорить о принципе неопределенности. И вместе с ними — философы, потому что коротенькая формула легко и с полным правом совершила прыжок из владений квантовой физики в область философии природы.
Это и был тот искомый фундаментальный закон, до которого в те же дни, ведя свой давний спор с классической причинностью, почти добрался в норвежском одиночестве Нильс Бор.
Надо ли растолковывать, что он перечувствовал, когда по возвращении в институт увидел гейзенберговскую формулу?! Она явилась для него зрелищем и прекрасным, и драматическим. Его былой ассистент шведский теоретик Оскар Клейн рассказал историкам:
— …Бор отнесся с истинным восхищением к этой замечательной формуле. А в то же время ему стало как–то не по себе, быть может, потому, что все это роилось в его собственной голове, да не успело оформиться до конца.
Но разве не «удивительнейшим образом удивительно», что они — Бор и Гейзенберг — нашли порознь и несхожими путями то, до чего не могли доискаться вместе? Психологически совсем не удивительно…
Верно, что в спорах рождается истина. Так было, в сущности, и на сей раз: без многомесячной, мнимо безысходной дискуссии ни один из них, вероятно, до решения не добрался бы. Но верно и другое: в спорах истина умирает. Она в них попросту тонет. В спорах беспрестанно разрушается сосредоточенность каждой из сторон. Кроме взаимной помощи, возникают взаимные трения–помехи. И в тысячный раз оправдывается испанская народная мудрость: «Вдвоем привидения не увидишь!» Теоретические открытия сродни привидениям.
Наверное, прав был, или уж по меньшей мере знал, о чем говорил, выдающийся английский философ и математик Бертран Рассел:
«Без способности к умственному одиночеству культура была бы невозможна».
А наш академик Владимир Иванович Вернадский, ученый необъятной широты мышления, как раз в ту пору, в середине 20–х годов, однажды написал своим коллегам по академии:
«Вся история науки доказывает на каждом шагу, что в конце концов постоянно бывает прав одинокий ученый, видящий то, что другие своевременно осознать и оценить были не в состоянии».
Возникновение соотношения неопределенностей — одна из лучших страниц в истории квантовой революции. Она, как притча, навечно годная впрок… В наши дни господства громадных институтов и многолюдных лабораторий многие живут с убеждением, что в совместном научном поиске и только в нем — вся сила. Они заблуждаются: не вся! Поиски сообща — великий стимулятор. И нигде не ценили этого так высоко, как в копенгагенской школе Бора или московской школе Ландау. Но надо уметь разлучаться — отправляться в умственное одиночество. Может быть, в самый несчастливый момент тупика это–то всего более и надобно — уметь разлучиться. Недаром же Резерфорд после шести часов вечера разгонял остающихся в лаборатории: «Нельзя все время работать — надо же когда–нибудь и думать!» Он знал, когда и как являются привидения…
Бору в Норвегии вслед за первым привидением — контурами соотношения неопределенностей — явилось еще и второе. Гейзенберг сказал, что Бор привез с собою принцип дополнительности.
9
Что дало право Гейзенбергу на такое умозаключение? Ведь сами эти слова — принцип дополнительности или теория дополнительности — Нильс Бор впервые ввел в обращение только осенью 1927 года, а тогда лишь кончался февраль. Суть в том, что идея, как всегда, родилась раньше термина.
Приготовленную Гейзенбергом статью о соотношении неопределенностей Бор встретил не только с восхищением. Раздалась и критика. Да, обычная в ту эпоху бури и натиска неумолимая критика. Она бывала уделом каждого нового шага вперед — такому шагу всякий раз надлежало быть безупречно обоснованным. Слишком высока была ставка — убедительность нового физического миропонимания. Ученик сознавал это не менее остро, чем учитель.
«…Я никогда не послал бы мою работу в печать, прежде чем не узнал бы, что Бор ее одобряет», — говорил Гейзенберг историку Куну.
А Бор сразу заметил огрехи в выводе замечательной формулы. Эти огрехи не сказывались на результате, но вызывали сомнение в его строгости и обязательности. А источником ошибок было все то же одностороннее пренебрежение Гейзенберга к волновой ипостаси частиц:
«Я хотел вывести все из матричной механики, и потому мне не нравилось привлекать к этой проблеме волновую теорию».
А привлекать пришлось. Ну хотя бы оттого, что ему понадобилось мысленно поставить идеальный эксперимент по наиточнейшему измерению координаты и скорости электрона. Он должен был показать, что и в идеальном опыте неопределенности остаются.
…Сверхчувствительный микроскоп. Практически не осуществимый, но теоретически — сколь угодно. Электрон освещают самые–самые коротковолновые лучи. Они, как игла, накалывают микрочастицу и засекают место ее пребывания. Для точности нужна игла поострее. А ширина острия — это длина волны освещающего луча. Даже рентгеновский луч тут непригоден: слишком тупая игла — у него длина волны соизмерима с диаметром атома водорода, а электрон в десятки тысяч раз меньше. Вы захотели узнать адрес друга и слышите в ответ: он живет где–то в пределах Москвы! Такова точность рентгена, если ваш друг — электрон. Но мысленно можно брать иглы сколь угодно острые — гамма–лучи радиоактивных элементов. И добиваться все большей точности. Неопределенность в знании координаты будет становиться все меньше. И наконец гамма–микроскоп сможет сообщить надежный адрес: вот он, здесь, электрон!