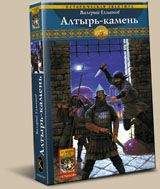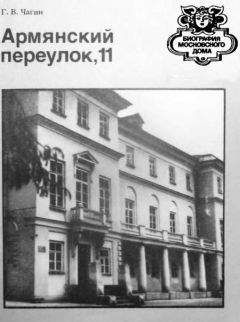3 июля, четвёртый день Гекаты.
С утра почувствовал себя достаточно бодрым, чтобы покинуть спальню и приступить к делам. Провёл небольшой приём, потом занимался обработкой своей добычи. И вот что я по этому поводу думаю. Сколь ни был велик кошмар, что мне пришлось пережить, дело того стоило! Без малого полугарнец чистого вещества остался после просева и удаления посторонних примесей. Подумать только — полугарнец столетней земли, добытый, заметьте, в самый первый день новолуния, и не в деревне на сто дворов, не в посаде захудалом — в самой столице, где жителей едва не миллион! Доводилось ли хоть кому-то со времён царя Соломона держать в руках подобную ценность?! Воистину, ощущаешь себя Владыкой Мира! Нет предела гордости и ликованию нашему! — видно, настолько переполнила господина Понурова эта самая гордость, что заговорил о себе любимом во множественном числе.
Одно лишь нас печалит: то же самое ощущает в эту минуту и пальмирский чухонец. Пришла шифрованная телеграмма — Илье Эмильевичу тоже удалось раздобыть столетней земли первого дня срока, всего на несколько унций меньше, чем нам. С одной стороны, даже хорошо, иначе, всё предприятие утратило бы смысл (впрочем, землица и тогда не была бы лишней, даром не пропала бы!). С другой — досадно, что сделал это именно Контоккайнен, а не другой менее неприятный субъект…
* * *
7 июля, среда.
Москов-град кипит и клокочет, СПм, подозреваю, тоже!
Спохватились наши господа-маги к пятому дню срока землицу делить, да поздно! Подчистую выбрано! Из Оккультного собрания явились нынче к нам на дом с целой петицией: выдели им долю! Ха! Долю им! Не дождётесь. Кто добывал, тот и хозяин! Струсили в первый день пойти, вот и поплатились. Ступайте теперь по городам и весям, собирайте силушку по крохам. Россия велика, авось, и на вашу долю где что накопилось. Ничего, сгодится, как от помёта просеете… А нам надобно, пожалуй, усилить защиту — как бы не вышло чего. Воров в Отечестве нашем во все времена хватало, и нынешние, увы, не исключение…»
Такая вот сложилась картина. Показания колдуна Ворона она подтвердила — и только. Вдоль и поперёк изучил Роман Григорьевич дневник, в надежде извлечь из него хоть что-то новое, но тщетно. Ни о столетней земле, ни о транспортном прожекте господин Понуров больше не упоминал, будто забыл думать. Лишь в день пропажи прислуги дрожащей его рукой сделана была короткая запись:
«Боюсь, события начинают приобретать нежелательный оборот, и как бы не сбылись худшие наши опасения. Минувшей ночью в столицу прибыл К, это доподлинно известно. Надо дать знать Контоккайнену, надеюсь, ещё не поздно. Подумываю отменить все приёмы. Жаль терять прибыль, но так будет безопаснее»…
Выходит, не отменил.
«Эх, и скареда же ты, господин Понуров! — подумал Роман Григорьевич с досадой, швырнув дневник на стол. — Заказ получил миллионный, а сам ради собственной же безопасности пожалел копеечку потерять! Возись теперь с твоим трупом! И что это за загадочный «К»? Трудно было имя назвать? Поливать грязью коллегу Контоккайнена — это ты не стеснялся, а тут вдруг поскромничал! А мне что теперь прикажешь делать, где твоего «К» искать? Впору к спиритам обращаться, дух твой вызывать для допроса! Интересно, милейший Аполлон Владимирович умеет вызывать духов? Чтобы далеко не ходить…»
Однако и к Аполлону Владимировичу Ивенский не пошёл, вместо этого сел в сани и поехал домой, потому что за окном стало совсем темно, и служебное время вышло. Погода на улице была отвратительная — сильно мело, колючие снежинки били в лицо, деревья гнулись к земле. Извозчичья кобыла не хотела идти против ветра, на каждом перекрёстке норовила свернуть не туда. Извозчик злился, но кнут в ход не пускал, обходился одними словами, такими выразительными, что Роману Григорьевичу снова вспомнился Сидор Охальник. После каждой его гневной тирады лошадь обиженно ржала, и казалось, будто она бранится в ответ. В общем, дорога до дому вышла беспокойной, зато Романа Григорьевича в пути посетила идея. Если захватить с собой побольше снеди и вновь наведаться к дому убиенного мага — не разговорится ли отощавший домовой, не укажет ли убийцу? Конечно, в суде показания нежити никто учитывать не станет, но поиск существенно облегчится, а там и за доказательствами дело не станет, добудем как-нибудь… А опасный, должно быть, тип этот «К», если одно его появление в городе напугало господина Понурова больше, чем ночная нежить «терзавшая» его «часы напролёт»!
…Могучий порыв ветра так и внёс Романа Григорьевича в дом, и дверь за ним захлопнул, опередив швейцара Трофима. «И где такое видано, чтобы входная дверь кнаружи отворялась? — привычно разворчался старик, это была его любимая песня. — В хороших домах входная дверь завсегда отворяется вовнутрь, чтоб снегом однажды не завалило, чтоб дождь не хлестал. А у нас что? Руки отбить той шельме, кто эдак её понавесил!».
Справедливости ради заметим, что благодаря выступающему порталу с колоннами, ни дождь, ни снег на пресловутую дверь не попадали вовсе, однако, ворчуна это не смущало. «Не положено, чтоб кнаружи, и всё тут»! Сколько жили Ивенские в доме на Великой, столько и слышали от своего швейцара эту песню. В детстве Роману Григорьевичу даже казалось порой, что если обустроить вход «как положено», Трофиму станет не о чем говорить, и он онемеет.
Зато денщику Захару такая участь явно не грозила — этот был большой любитель поболтать, и тему для этого всегда находил. Вот и теперь, встретив Романа Григорьевича в передней, сразу принялся ябедничать.
— Так что, ваше высокоблагородье, хворый помощник ваш Тит Ардальёныч, коего давеча Фрол доставил, ведут себя плохо, озоруют. Лекарь был, наказывал их благородию не утомляться, лежать покойно. А они слушаться не желают, заместо того, чтоб отдыхать, как было велено, всё книжки читают одну за одной, одну за одной, будто заведённые. Вы бы запретили им, Роман Григорич, а то, не ровен час, помрут — а кто виноват будет? Захар! Недоглядел, скажете!
— Заха-ар, — простонал Роман Григорьевич, — уймись! Никто ещё от чтения не помирал, сотню раз тебе о том говорили!
Говорили. Но Захар не верил. Однажды молодой барин, даже не понять, за какую провинность, заставил его целиком, от начала до конца, прочесть по складам сказ о золотой рыбке, старом рыбаке и его сварливой бабе. И он, Захар, сам едва не помер тогда от умственного напряжения — пыхтел, сопел, потом обливался, стонал, что легче поленницу дров наколоть али поле вспахать, чем принимать этакую муку… Притом, что в сказе было всего-то десяток страниц с картинками, а господа завсегда стараются ухватить книгу потолще — откуда же у них здоровью-то взяться? Оттого и барин, Роман Григорич, сколько ни корми, тощ как та былинка, оттого и помощник его расчихался. Вся немочь от книг идет! Разве можно такую опасную вещь давать в руки и без того хворому?