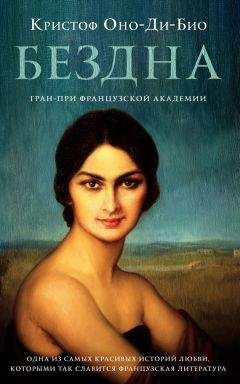– Значит, мы, мужчины, бессильны с ними соперничать?
– Ну вот, теперь ты понял. Так что наберись терпения и стойко переноси свои горести. То, что сейчас происходит в ее теле, называется не мятежом, сэр, а великой революцией.
– Ну ладно, лишь бы только меня не гильотинировали.
– Вот теперь закажем еще по мохито.
Бастьен забыл упомянуть еще один гормон – адреналин. Этот гормон вырабатывается страхом или ощущением опасности, даже воображаемой, и, попадая в кровь, искажает черты лица, провоцирует учащенное сердцебиение и неконтролируемый гнев.
Я вернулся домой позже обычного. Уже и не помню, из-за чего – то ли нужно было отсылать материалы, то ли затянулось собрание. А может, прямой эфир или похищение наших специалистов, работавших в Сахаре. Нет, вспомнил: длинная беседа с одним балканским художником, с которым я встречался раз в неделю, решив разгадать тайну его женщин с ярко-синими волосами и мертвенно-бледными лицами, написанных красками, куда он подмешивал пепел от своих сигар.
Воздух был напитан пыльцой и озоном. Сидя в автобусе, я любовался в окно расцветающим летом с его девушками в коротеньких юбочках и парнями в майках, которые не желали думать о своих офисах, о государственном долге Германии или о сирийском городе Алеппо, где противники молотили друг друга из пушек и гранатометов.
Алеппо… Когда-то я парился там в хаммаме, в Старом городе, где меня массировал усатый гигант-банщик, – кто знает, может, в настоящий момент стреляющий из «калаша» по вертолетам Асада…
Мировые устои шатались, люди непрерывно говорили о Боге, том, который поможет Америке, поддержит суннитов в Сирии. Наверное, у Бога скопилось столько дел, что при всем своем могуществе он не успевал с ними управиться. Да, миру приходилось плохо, так что в этой ситуации производить на свет ребенка (который, кстати, об этом не просил) было, видимо, чистым безумием.
Большинство людей вокруг меня носили наушники. Они слушали музыку, но мне казалось, что этим они отгораживаются от мира, чтобы хоть как-то его переносить. Воздух сиял в солнечном свете, деревья Монмартра уже благоухали свежей листвой, и я бегом, с легким сердцем, поднялся на пятый этаж, даже не представляя, что меня ждет.
Пас сидела в гостиной с ноутбуком на коленях, в моей рубашке, расстегнутой на выпуклом животе. При одном только взгляде на жену я почувствовал себя счастливым, несмотря на «Nisi Dominus»[144], гремевшую на всю квартиру. Непрерывный бас, виола, контр-тенор – от этой кантаты Вивальди, возглашавшей, что без Господней помощи ничто не может быть воздвигнуто, у меня всегда мороз по коже пробегал.
– Все нормально? – спросил я.
Пас вздрогнула: она не слышала, как я вошел. И моментально захлопнула крышку ноутбука, лежавшего у нее на коленях под нависавшим над ним животом, который, наверное, скрывал от нее нижнюю часть экрана.
– Да, а у тебя? – неохотно отозвалась она.
– Прекрасно!
Я сел рядом, приобняв ее за плечи, и начал рассказывать о балканском художнике, зная, что ей нравились его работы. Потом, сочтя музыку слишком громкой, я потянулся к пульту, чтобы приглушить звук. Пас тут же вскипела:
– Что ты делаешь?
– Да ничего же не слышно.
– Лучше скажи, что ТЫ себя не слышишь. А ведь ты обожаешь себя слушать.
Меня словно громом ударило. Я так растерялся, что не смог толком возразить и только пролепетал:
– Послушай, Пас, я же просто рассказываю, как провел день…
– И значит, считаешь себя вправе выключать музыку, которую я слушаю, – только потому, что ты так решил.
– Да ничего я не считаю…
Она нетерпеливо отмахнулась, злобно глядя на меня. Я предпочел не настаивать. Вернул звук на прежнюю громкость и пошел в кухню, чтобы налить себе вина.
– Тебе я, разумеется, не предлагаю, – сказал я, вернувшись в гостиную.
– Ну, ра-зу-ме-ет-ся, – ответила она, четко разделяя слоги и подражая моему тону.
– Ты плохо себя чувствуешь?
– Зато ты, похоже, чувствуешь себя превосходно: твое вино, твой довольный вид, твои интервью…
– Послушай, Пас, чего ты добиваешься? Я рассказал тебе про свой день и налил себе вина, в чем трагедия?
– Да нет никакой трагедии. Но ты мог бы все-таки спросить, как у меня дела!
– Ты шутишь? Я еще с порога спросил, как у тебя дела!
– О да, чисто формально. Но на самом деле тебя это мало интересует. Ты занят только самим собой.
– Ну хватит, Пас. Ты сегодня ходила к себе в студию?
Она мотнула головой. Открыла свой ноутбук и снова уставилась на экран.
Я сел на кожаный диван.
– Ты не хочешь со мной разговаривать?
– Нет, я хочу, чтобы ты хоть ненадолго оставил меня в покое.
– А я тебе мешаю?
Она не соизволила ответить, схватила свой мобильник и забарабанила по кнопкам. Это называлось «общаться».
Я печально побрел в спальню, улегся на кровать и стал смотреть в открытое окно, где пышно цвело лето и сладко благоухали, наливаясь соками, липы и акации «маки». Я думал о тех временах, когда этот лес покрывал весь Монмартр, когда под его сенью лепились хибары и домишки маргиналов Прекрасной эпохи[145], «апашей»-любителей абсента, мастерски владевших пером. Думал о Модильяни, Пикассо или Ван Донгене, которые взращивали в своем неустроенном быту, среди секса, алкоголя и красок, новое искусство, обещавшее сделать их королями мира. Убаюканный теплым ветерком, я задремал. Мне были приятны эти минуты полубодрствования-полусна, сводившие меня с мужчинами и женщинами былых времен. Студентом я работал над одним историческим периодом, который произвел на меня такое впечатление, что с тех пор неизменно возникал перед моим мысленным взором в виде пестрой мозаики. Иногда я видел Париж 1900-х годов, где правили бал оригинальность, антиконформизм и некоторая наивность, которые все делали возможным, притом без напряга, без боли, без видимых последствий. А иногда недалеко от моей кровати парило, презрев закон тяготения, кабаре «Черная кошка», которому нынче стукнуло сто тридцать лет, и юный пышноволосый поэт по имени Морис Роллина декламировал очень мрачные и очень дерзкие стихи, аккомпанируя себе на пианино, на крышку которого он водружал человеческий череп.
Я б опиум курил из детской головы
И ноги опирал на верного мне тигра[146].
Подумать только: его даже не посадили за это в тюрьму! И не изничтожили в Твиттере. Потом мне вспомнились прозвища Тулуз-Лотрека – Чайник или Кофейник, потому что его рост был всего метр пятьдесят два, а сифилис наделил необузданным сладострастием. И он вовсе не огорчался. И не подавал в суд на обидчика. В те времена умели ценить шутки.