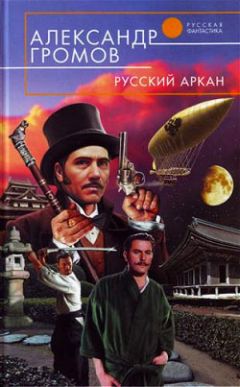– Ладно, поберегусь. Иди-ка отлежись, а «Лорелею» – за борт.
Шмыгая носом, слуга удалился. Лишь после этого Лопухин беззвучно захохотал.
Произведя наутро поверку, недосчитались четырех матросов, не вернувшихся из увольнения. Аверьянов с делано сконфуженным видом чесал в затылке:
– Сам не пойму, куда они подевались, ваше высокоблагородие. Ребята толковые, не какие-нибудь… Должно, загуляли. Да и как им не загулять после неволи пиратской да еще перехода через океан? Вы уж не серчайте на них, ваше благородие. Очухаются – явятся назад как миленькие, никуда не денутся…
Но язвительная ухмылочка так и готова была исказить губы боцмана.
– Думаю сегодня уменьшить количество увольнительных на четыре, – шепнул графу Кривцов. – Пусть распределят по жребию. Озлобятся, конечно, но пусть злобятся на застрявших на берегу разгильдяев…
Лопухин покачал головой:
– Они озлобятся на нас.
– Так что же прикажете делать? Дисциплины нет.
– Ничего не делать. Отпускайте на берег следующую треть.
В эту треть попал Нил. Весь вечер и полночи он шатался по городу, дивился на туземцев, подсмотрел из-за кустов танец живота, исполняемый туземками в одних только юбочках из травы – стыд и срам, однако не оторвешься, – и заполночь писал по горячим следам, пачкая в чернилах пальцы и старательно прикусив язык:
«Ну и город! Таковских городов я истчо не видывал, вот крест. Не город, а картина в багинете. (Или в багете? Запамятовал.) Деревья тут вот такенные, в растопыр, как барские зонтики, а больше пальмы. Ночью тепло, как у нас днем, и только летучие мыши по воздуху шмыгают. Или вот какая акварель: бежит желтая местная девка, а за нею чужеземный матрос с тубареткой, вот-вот попотчует по кумполу. Обои в дым и хлам. Ну, энто картина знакомая.
А по Расее я дюже скучаю. Но барский слуга сказывал, что скоро уже мы выйдем в море и пойдем себе в страну Японию. Я уже много японских слов знаю, какие Кусима-сан употребляет. „Банзай“ у них – это как „ура“ по-нашему. „Гейша“ – раскрашенная девка с сэмисэном. Сэмисэн – это японская балалайка, а обтягивают ее японцы кожей кошачьей либо, какие поплоше, собачьей. Живодеры, одно слово. Кусима мне рассказал, что они кажный божий день едят, так я понимаю, что с таких харчей и себя перестанешь жалеть, и других людей, не говоря уж о всякой безсловесной твари. А такоже харакири себе делают, кишки выпущают и берут грех на душу. А я так разсуждаю, что каковы харчи ни есть, а бога бойся и греха беги. Потому как тоже душу имеешь, хучь и японскую…»
Воочию познав величину земного шара, Нил уже не отправлял бутылочные послания тетушке Катерине Матвеевне в город Житомир, а просто-напросто упражнялся в правописании. Во время плавания, даже в шторм, граф каждый день находил время для занятий с юнгой. Нил на лету хватал сведения из географии, истории, физики, понемногу начинал понимать японский язык… С русской грамматикой и чистописанием дело обстояло хуже всего. Во время стоянки на Оаху графу было недосуг, но Нил точно знал: спросит. И если не исписал нескольких страниц, то посмотрит так, что захочешь провалиться ниже орлопдека: мол, не зря ли я тут на тебя свое время трачу? Человек ты или лишь на японскую балалайку годен?
За дверью – легкий шум, невнятный разговор. Торопясь, Нил посадил кляксу. Вот наказание! Положил на подставку стальное перо, задул лампу, пробрался на цыпочках к двери, тихонько приоткрыл…
Его сиятельство граф Лопухин был тут как тут – стоял к Нилу спиной и как-то странно держал руку. Нил всмотрелся пристальнее сквозь дверную щель. Вот так номер: в руке граф имел револьвер!
А перед ним угрюмо стояли четверо во главе с боцманом Аверьяновым. Один нервно сжимал в пальцах короткий ломик, словно хотел его согнуть. Другой прятал руки за спиной, и оставалось лишь гадать, что у него там. Масляный светильник на стене корабельного коридора бросал под ноги резкие тени.
Не повернувшись к Нилу, граф сделал свободной рукой понятное движение: скройся, мол. Нил попятился на вершок и вдвое уменьшил щель, но прятаться не стал. Ясно же было, что барину грозит опасность! Нешто лучше предать, чем ослушаться?
Аверьянова Нил не любил. Спору нет – лихой вояка был боцман. На Груманте, сказывали, сильно помог – со своим отрядом прямо-таки размазал по студеным камням орудийную прислугу береговых батарей. А не лежала душа юнги к боцману. Если бы он шпынял мальца, как все на свете боцмана! Если бы давал по шее за дело и не за дело! Шея что – от боцманского кулака только крепче будет. Где это видано учение без мучения? Но нет, Аверьянов не бил юнгу. Шпынял словесно – это да. Высмеивал. Презрительно кривя рот, при всех дразнил барчуком, и матросы смеялись. А какой он, Нил, барчук? Кому палубу лопатить, чуть только морская птица нагадит на настил? Нилу. Кому первому карабкаться по вантам чуть ли не на самый клотик? Снова Нилу. А что барин взялся учить юнгу грамоте и всякой книжной премудрости, так какое же в том барство? Обидно…
– Зря пришли, – послышался голос графа, и Нил весь обратился в слух. – Денег в судовой кассе почти нет. Все истрачено. Раздаем остатки. Вы видели, сколько тех остатков.
– Мы видели то, что вам было угодно нам показать, ваше высокоблагородие, – косясь на револьвер и, как всегда, ухмыляясь, молвил Аверьянов. – Вы показали гроши, какие выдавали на руки, а судовой кассы мы в глаза не видели. А ведь мы за нее кровь проливали, верно, братва?
Матросы одобрительно загудели.
– Да ну? – изумился граф. – А я-то думал, что на Шпицбергене мы вместе дрались за свободу, а вовсе не за деньги. Нет?
– Одно другому не помеха. Деньги надо поделить поровну. И я так считаю, и вот братва тоже. Вы уж лучше не мешайте нам, вашескородие…
– Денег хотите? Во Владивостоке вас ждут призовые деньги за судно плюс жалованье. Чем вы недовольны?
– Мы хотим получить деньги сейчас, – прогудел раньше Аверьянова дюжий матрос.
– На пропой или на мировую революцию?
– Это уж наше дело, – отрезал Аверьянов. – Мы хотим, чтоб по справедливости. Всем поровну. Даже вам дадим долю. И Кривцову. А то братва обижается. Не доводите уж нас до греха, ступайте себе подобру-поздорову…
– Еще раз говорю вам: денег почти нет. – Голос Лопухина оставался спокойным. – Даю в том честное слово.
– А если мы хотим проверить? Будете стрелять?
Нил напрягся. Граф, словно у него были глаза на затылке, повторил свободной рукой жест: спрячься, мол.
Нил не послушался – это было выше его сил.
– Буду. – Голос графа прозвучал ровно, но так, что мороз продрал по коже.
– А не боитесь стрелять в матросов, ваше высокоблагородие? Что с вами тогда сделает братва, ась?
– А быть может, не со мною, а с вами?
Повисла тишина. Нил слышал только тяжелое дыхание матросов и понимал: барин одолевает их, одолевает! Он тверже камня. И матросы понимают: он действительно выстрелит, если на него набросятся. Первую пулю, наверное, пустит в потолок, но потом… Может опоздать, если на него насядут все разом! Тут будет самое время выскочить в коридор и кинуться им под ноги…
– Пошли отсюдова, – со злостью и обидой сказал вдруг один из матросов. – Все ясно.
Нил понял, что обошлось. Теперь уже ничего не будет. И точно – первым повернулся и затопал по коридору Аверьянов, остальные – следом.
Нил ощупью стал искать спички – затеплить лампу. Сейчас войдет барин и попеняет за непослушание, а главное, за праздность. Лучше уж заняться чистописанием, будь оно неладно…
Утром недосчитались еще пятерых, зато вернулся один матрос из позавчерашних отпускников. Принеся повинную, вздыхал: черт попутал да вино… Выиграл в кабаке деньги у одного голландца да все их спустил. Очнулся в канаве. Где остальные? Не видал, ваше благородие, вот крест святой, не видал…
– Будем отпускать остальных? – на всякий случай спросил графа Кривцов.
– Непременно, – отозвался Лопухин. – Разве у нас есть другие варианты? Завтра уходим, сегодня у них последняя возможность погулять. Откажем в увольнении – спустятся ночью по якорцепи и доберутся до берега вплавь. Чего доброго, акула кого-нибудь сожрет. Или хуже того – взбунтуются.
– Не все назад воротятся…
– Значит, так тому и быть.
Будто бы и не было ночного инцидента. С последней партией съехал на берег и боцман Аверьянов. Оставшиеся на борту лениво доканчивали приборку после завершившейся погрузки. Палубный настил накалился, как сковородка, матросы то и дело поливали его водой. Окатывали и друг друга, фыркая по-тюленьи и отряхиваясь.
Кусима смастерил удочку и часа через два терпеливого ужения достал из нечистой портовой воды никому не известную рыбину калибром с селедку. Сейчас же почистил добычу на камбузе, порезал тоненько и принялся уплетать за обе щеки, ловко орудуя двумя выстроганными палочками. Рыбу он макал в плошку с черной бурдой собственного приготовления, смешанной частью из купленных в городе приправ, а частью из перетертых в кашицу растений неопознанной породы. Вид у японца был блаженный.