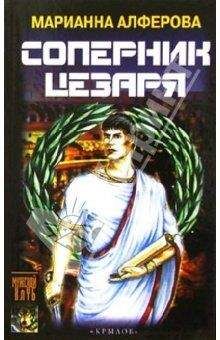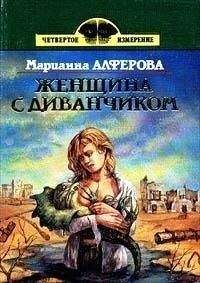— Переживаю, — вздохнул Квинт.
— Вот что ты мне скажи, — Клодий откинул назад свои каштановые кудри, чуть более длинные, чем полагалось носить римлянину, — если тебе придется выбирать между Цезарем и Помпеем, кого ты выберешь?
— В каком смысле? — не понял Квинт.
— В самом прямом.
— Помпея…
— Почему?
— Великий обещал…
— Что обещал Помпей? — Из голоса Клодия тут же исчез всякий игривый тон — остался один металл, режущий, скребущий. Квинт молчал, болезненно морщась. — Ведь я знаю, что этот памфлет написал Марк Туллий. Но я могу об этом забыть. Так что тебе обещал Помпей? Тебе или… твоему брату?
— Он обещал… обещал вернуть брата из изгнания… Но это ведь многие обещали. Многие.
— О да! Многие обещали. — Клодий расхохотался. — Но не многие могут. А Помпей… Ведь ему это по силам? Если он захочет? Но вот захочет ли? Мне, к примеру, кажется, что нет.
Квинт вдруг вспылил:
— В конце концов, мы еще не рабы!
Гордо откинув голову, брат изгнанника вышел.
— И этот за Помпея! — пожал плечами Клодий. — На словах все — за Помпея. И, спрашивается, почему?
— Великий — за Республику, — мрачно сказал Зосим, о присутствии которого Клодий забыл.
— На словах. Все только слова. Республика Помпея — это кучка аристократов, захвативших сенат. Да, Помпей вполне ясен… Другое дело — Цезарь… Не могу решить, кто из них опаснее. А ты за кого? Вот ты — за кого бы голосовал?
— Мой голос ничего не значит.
— Если я дам вольноотпущенникам право голосовать во всех трибах, за кого ты будешь?
— За тебя, — сказал Зосим.
Вновь в дверях возник Этруск:
— Доминус, только что установили статую Свободы в храме. Просят тебя посмотреть.
— Ну что ж, пойдем, поглядим на мою Свободу! — рассмеялся Клодий, хлопнул в ладоши и направился к двери, едва сдерживая нетерпение — как будто он не храм шел осматривать, а торопился на свидание. — Свобода — моя Свобода — прежде всего!
На участке, где прежде стоял дом Цицерона, кипела работа.
Храм Свободы еще был не закончен: мастера трудились, укладывая мозаику на полу. Портик же только-только был начат — возвели стену и теперь устанавливали колонны. Повсюду суетились припорошенные известью люди. Кричали, ругались. Скрипели блоки, пахло смолеными канатами, опять же известкой, свежеструганным деревом и земляной смолой.[109]
Клодий остановился перед работником, что осматривал лежащие в плетеной корзине деревянные болты для скрепления плит.
— Думаешь, эти болты долговечны? — спросил Клодий.
— Э, доминус, такому дереву сносу нет, — отвечал плотник. — Я помру, ты помрешь, дети детей твоих отправятся за Ахерон — а они все будут как новые. А все потому, что дерево срублено после восхода созвездия Пса.
Клодий смотрел на царящую суету и улыбался. Это то, что нужно сейчас Риму, — Свобода, освобождение от старого, от ненужной шелухи, от всяческих пут.
Зосим, пришедший на стройку вместе с патроном, вошел вслед за Клодием в храм.
— Нравится моя Свобода? — спросил народный трибун, обходя мраморную статую.
Повернутая вбок женская головка с причудливо уложенными волнистыми волосами, тонкий профиль — на входящих Свобода почему-то смотреть не желала. Ткань — сразу видно, что тончайшая, обтекала совершенное тело: маленькие груди, изящный изгиб торса, округлые бедра.
— Красивая, — признал Зосим. — Какой-нибудь грек сделал на заказ?
— Брат привез из Греции. Раньше она стояла на могиле одной любвеобильной девицы, но я подумал, кому она там нужна? Пусть приедет в Рим и станет свободной.
— Могильный памятник продажной девки? — изумился Зосим. — Свобода?…
— Ну да. Продажней Свободы нет на свете богини. Одним она дает без всякой платы, с других требует миллионы. Обожает золотишко. Но сама Свобода — это неиссякаемый кредит. Да ты посмотри на нее, посмотри на ее профиль! Кого она тебе напоминает, а? Погляди! — крикнул Клодий с восторгом, будто в самом деле узрел перед собой богиню. Зосим всмотрелся. Несомненно, лицом она походила на Юлию, дочь Цезаря и жену Помпея. Чем дольше всматривался Зосим, тем разительней становилось сходство.
— Не может быть… — прошептал Зосим. — Невозможно…
— Разумеется, прежде она была немного другой. Но я позвал римского скульптора, и он усилил сходство. Разве она не достойна быть нашей Свободой?
— Но ведь когда-то это была…
— Не имеет значения. Тем и хороша Свобода, что ей безразлично, кем мы были, но лишь — кем мы стали.
— Странные речи ведешь ты подле богини, — потупился Зосим и глянул исподлобья на статую гречанки с лицом прекрасной Юлии. — Как бы она не покарала тебя, доминус.
— Храм еще не освящен, так что пока это только мраморное изваяние, и только. Мы можем говорить все что угодно. И потом, я уверен, моей Свободе нравятся мои речи. — Клодий улыбнулся статуе, как живой женщине, — обещающе и дерзко.
— Хозяин, ты где? — раздался снаружи голос Полибия, и на пороге, загородив свет, возник гладиатор. — Я тут письмишко принес. — Он протянул Клодию запечатанные таблички.
— От кого?
— От Помпея. Но не тебе. Бибулу. Письмоносец почти не сопротивлялся.
— Тебя не узнали?
— Надеюсь, что нет.
— Опять Бибул и Помпей!
Клодий бесцеремонно сломал Помпееву печать и принялся читать. Помпей просил Бибула обсудить в сенате вопрос о назначении его, Помпея, ответственным за снабжение Рима хлебом с правом назначать легатов и контролировать всех наместников в провинциях. Клодий ухватился за цоколь Свободы — у него потемнело в глазах. Великий нагло украл у народного трибуна бесценную задумку — через хлеб получить власть практически над всей Республикой, получить на целых пять лет военный империй и возможность распоряжаться огромными суммами.
Клодий перечитал письмо. Внизу мелким почерком была приписка. Клодий едва сумел ее разобрать: «Я готов поддержать оптиматов. Но законы Цезаря не трогать».
Что же получается? Помпей хочет заключить союз с аристократами, но при этом желает выглядеть чистеньким перед Цезарем.
Клодий заметался по храму. Неужели Помпей думает, что народного трибуна можно игнорировать?
Ну, нет, ты заплатишь за свое предательство, так заплатишь, Великий…
— Плохо дело? — сочувственно спросил Зосим.
— Фекально. — Клодий провел ладонями по лицу, будто стирал грязь. — Надо решать вопрос с хлебом.
Храм Диоскуров[110] — Кастора и Поллукса — был одним из самых красивых в Городе, особенно теперь, после недавней перестройки. С его высокого подиума любили выступать ораторы, ища благосклонности толпы. В тени его портика не раз располагались преторы, чтобы вершить суд в присутствии народа. Капители его беломраморных колонн кудрявились листьями аканта и были раскрашены в желтый и красный цвета, а двери обиты медью, сверкающей, как золото, и кое-кто клялся, что это настоящая коринфская бронза.
На форуме, как всегда, толпился народ — пришли посудачить, узнать последние новости, встретиться с друзьями или купить что-нибудь в лавках. Многие не могли жить без форума, как без еды и питья, — им льстила мысль, что они стирают подметки своих кальцей о плиты мостовой не где-нибудь, а в центре мира.
Из лавки у самого входа в храм несся истошный крик: там этруск-дантист выдирал очередному пациенту зубы.
Помпей стоял на ступенях храма Кастора и Поллукса в окружении шести рослых парней-ветеранов, которые вернулись с ним с Востока. В тени храмового портика толкалось немало желающих переговорить с Великим. Один уже прорвался… ба! да это же Квинт Цицерон. Опять пришел хлопотать за братца.
Клодий легко взбежал по ступеням, отстранил двух просителей, терпеливо ждущих очереди, оттеснил бесцеремонно Квинта Цицерона.
— Мне надо с тобой поговорить, Гней Помпей. — Пока ему удавалось сдерживаться и ничем не выдавать своей ярости.
У Квинта лицо пошло пятнами. Гневлив Квинт Цицерон и несдержан — а вдруг возьмет и всадит кинжал меж лопаток? Нет, не посмеет. Дерзости не хватит.
— Говорят, ты теперь на стороне Цицерона и хочешь помочь говоруну вернуться в Рим? — дерзко спросил Клодий Великого.
На круглом лице Помпея, казалось, навсегда застыло удивленное выражение — постоянно приподнятые брови, продольные морщины на лбу. В нем чувствовалась сила — физическая и душевная сила старого солдата, и одновременно — какое-то неуместное смущение, почти робость.
— Наверное, он и так слишком сурово наказан тем, что его отрезали от меня. И от Города. Марк Туллий — мудрый человек.