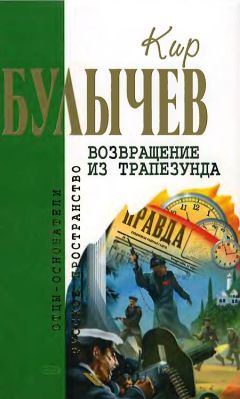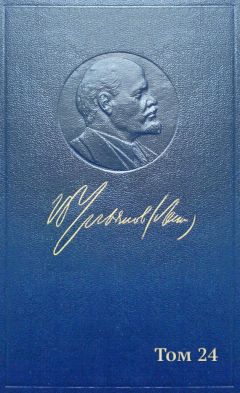— У меня нет синекур, — ответил Феликс. — У нас работа грязная, вонючая и, главное, неблагодарная. Счастливым потомкам нашим будет невдомек, какие завалы человеческой грязи разгребали их деды. Мы же скромно отойдем в сторону и не будем об этом напоминать.
— Кто-то должен делать такую работу, — согласилась Островская. Партия не дает нам выбирать легкую жизнь, И мы платим ей за это.
— Парадокс, — вздохнул Дзержинский. — Теологическая направленность ума.
Закалялись в спорах.
— Ирония неуместна, — возразила Островская. — Я не хочу, чтобы парень просиживал брюки в конторе.
— Есть у нас отдел… Он имеет образование?
— Гимназия, два курса университета, потом вольноопределяющийся…
— Ты умеешь подбирать людей с сомнительным происхождением.
— Ты, Феликс, лучше других знаешь, насколько несущественно происхождение.
— Когда-то оно даст о себе знать.
— Не сегодня. Сегодня ты — дворянин, и Владимир Ильич — дворянин. У нас дворян больше, чем у эсеров.
— А ты из шляхты?
— Мой дед был сослан в Крым после восстания в Польше.
— Есть у нас особый отдел по борьбе с международным шпионажем, — сказал Феликс Эдмундович. — Небольшой, но важный. Его сотрудники должны знать иностранные языки.
— Кто во главе?
— Ты его не знаешь. Молодой парень, Яшка Блюмкин, выдвиженец революции. В двадцать лет он был уже помначштаба в 3-й армии. А может, ему и двадцати не было.
— Не нашлось кого-нибудь постарше?
— Хороший парень, находчивый, смелый.
— Из генштаба? — В голосе Островской звякнула ирония.
— Из хедера, — коротко ответил Дзержинский. Больше он обсуждать своего сотрудника не пожелал. Значит, с ним была связана какая-то интрига, на которую Феликс был большим спецом.
— Я пришлю Андрея завтра? К кому? К Блюмкину?
— Да, прямо к Блюмкину.
* * *
Нина забыла фамилию заведующего отделом, но номер комнаты запомнила. Коля отправился в дом ЧК на Рождественке.
Пропуск Коле был заказан внизу.
Государство ограждало себя пропусками, литерами, допусками и прочими изобретениями революционного ума, до которых царская власть так и не додумалась.
Коля поднялся на третий этаж в 250-ю комнату.
Там стояло три стола.
Два были пустыми, канцелярскими, будто ожидающими оккупантов, а третий стол был начальствующим, по краю он был обнесен вершковой балюстрадой на деревянных точеных столбиках, покрыт зеленым сукном, на котором возлежало толстое стекло, в центре возвышался чернильный прибор — бронзовый, с медведями. Один из медведей держал чернильницу, другой — стакан для карандашей, третий лежал, положив морду на лапы, и, наконец, последний медведь являл собой папье-маше.
По сторонам на столе возвышались груды неорганизованной бумаги, за столом во вращающемся кожаном кресле сидел сам Блюмкин.
Судьба не давала им расстаться.
— А я знал, что тебя ко мне прислали, — сказал Блюмкин, вскочив из-за стола и бросившись к Коле лобызаться. — Мы славно с тобой поработаем. Должен сказать… ты садись, садись, рюмочку коньяка желаешь? Еле выцарапал тебя! Островская не отдавала. Ты с ней спишь?
Коля не знал, как обращаться теперь к Блюмкину. Был он моложе, но обладал некой способностью выплывать из безнадежных омутов жизни, И в то же время в нем была некая обреченность — явная, настоящая или напускная.
— Сейчас пойдем допрашивать Мирбаха, — сообщил он Коле. — Ты допрашивать умеешь?
— Не приходилось.
— Пора начинать, А то жизнь пройдет, а ты останешься на обочине, Блюмкин расхохотался. Он был большим, склонным к полноте человеком, хотя до полноты было еще далеко — он вскоре признается Коле, что ему еще нет двадцати, хотя во всех документах и анкетах он добавляет себе два года, чтобы его не считали мальчишкой.
В пустой комнате, куда они спустились, за голым исцарапанным столом сидел невзрачный молодой человек с узким лицом, которое сходилось к крупному, явно от другого лица приставленному носу.
— Сейчас будем с ним серьезно разговаривать, — сказал Блюмкин. — Знаешь, что за птица? Племянник графа Мирбаха!
— Простите, — сказал молодой человек, — вы ошибаетесь. Я не имею отношения к графу Мирбаху. Это случайное совпадение!
— Вот с этим мы и разберемся, — сказал Блюмкин, — Вот мой друг, — он показал на Колю, — немцев на дух не переносит. Как услышит — Ганс, Фриц, Шукер или Беккер, сразу хватается за револьвер. Правда, мой друг?
Коля пожал плечами. Даже ради успеха следствия он не смог бы признаться в испуге — а вдруг это не совпадение? Вдруг Яшка Блюмкин знает настоящую фамилию Коли?
* * *
Воссоздавать беседы великих людей, тем более беседы тайные, когда знающие друг друга собеседники пропускают в разговоре многие детали, известные им и без обсуждения, дело неблагодарное и мало что дающее постороннему человеку. Потому чаще всего остается лишь гадать, была ли такая беседа, что привела к великой беде или, наоборот, ко благу, или ее домыслили любопытные потомки и безответственные историки.
Именно одной из задач папа Теодора и иже с ним было узнать, когда такая беседа состоится и что на ней будет в самом деле сказано. Правда, учитывать приходится, что это вовсе и не беседа, а обмен словами, порой совсем непонятными для окружающих.
В апреле большевики вместе с левыми эсерами разгромили анархистов и отобрали у них особняки, в которых они пили водку и спорили об абсолютной свободе, выставив в окна рыльца «максимов». С полтысячи анархистов арестовали, многих потом отпустили и записали добровольцев в новую Красную армию, которую организовывал товарищ Троцкий, сменивший на посту наркомвоенмора случайных людей вроде Бонч-Бруевича-младшего или Крыленко. Армию готовили для сопротивления германской агрессии, потому что в нарушение Брест-Литовского договора Германия упорно продвигала на Восток границу своих владений, все более оттесняя к Азии Советскую республику. Армия создавалась медленно, единого фронта не было, на юге и западе создавались враждебные республике режимы и армии, с ними пока дрались военные силы на местах, и из этой сумятицы вырастали, как ядовитые поганки, вожди и атаманы. Они, впрочем, плодились не только у Советов, которых начали уже называть «красными», но и у белых, Началась война Алой и Белой Розы в русском варианте. Сходство ситуации было и в том, что положение на местах определили именно бароны, у которых вместо замков были села и города, и эти бароны порой быстро меняли стороны, если им это казалось выгодным. Так, село Гуляйполе стало феодом Нестора Махно, а неподалеку в Александровске правила Маруся, Богаевский сидел на Дону, Дугов еще восточнее, в Оренбурге, а Бермонтавалов обнаружился в Латвии.