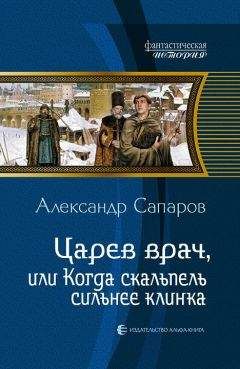Почти все они для своего времени прилично знали анатомию человека. Но вот когда речь заходила о функции органов, мне, конечно, очень трудно было удержаться от смеха. Но в мою задачу сейчас входило не учить их, а понять, не навредит ли еще больше такой врач своему пациенту.
Во второй половине дня приехал Луиджи Траппа, показавший на экзамене примерно такие же знания, что и все остальные. Он ни словом не напомнил мне о печальном эпизоде, когда его за подглядывание выгнали палками с моего подворья. В итоге я решил, что лучше такие лекари, чем никакие, и разрешил практику всем, кроме двух совсем тупых врачей, которые, похоже, все время учебы провели в таверне. А уж как они получали свои дипломы, понятия не имею.
На следующий день я рассказал государю о предварительных результатах проверки, и он тут же приказал стоявшему рядом с ним дьяку объявить в розыск скрывшихся самозванцев и судить их как полагается.
А вот моя фраза про мандрагору заставила его встревожиться, и я чуть было не потерял своего первого аптекаря, который мне пришелся по нраву. У меня совсем вылетело из головы, что мандрагору в Средние века считали не просто растением. Я еле убедил государя, что аптекарь выполнял распоряжения лекаря и что вытяжка из мандрагоры в небольшой дозе действительно может облегчить боль, но туманит сознание.
Но Иоанн Васильевич выглядел так, будто он еще раз с удовольствием поджарил бы Бомелиуса на сковородке.
Зато разговор на тему лекарской школы на этом фоне получился очень неплохим. Мне разрешили увеличить число учеников до пятидесяти человек, в том числе подготовить десяток аптекарей. Кто станет им преподавать, мне теперь было известно. Никуда не денутся, если хотят и дальше работать в Москве, будут учить не только своих помощников, но и моих студентов. У меня, кстати, во время раздумий на тему выписки лекарственных средств появилась мысль, что, если вместо латыни для выписки лекарств использовать современный русский язык, для этого времени он будет все равно что иностранный, зато для провизоров и докторов на Руси он сделается своим языком, который никто, кроме них, не поймет. Только этим решением опять наделаю себе работы – нужно будет аккуратно переписать названия всех известных лекарственных препаратов растительного, животного и минерального происхождения на будущем русском языке.
Но вот когда я осторожно коснулся в разговоре темы изучения лекарями трупов хотя бы казненных преступников, чтобы школяры могли тренироваться на них, то царь, перекрестившись, сказал:
– Ты что, Сергий Аникитович, думаешь, я не знаю, как у латинян в университетах ихних людей режут? Знаю я все это. Дозволяю своей волей. Но чтобы после резки такой похоронить по-божески, с отпеванием, как всех хороним. А ежели кости нужны, так вон нехристей по Москве сколько помирает, их и возьмите. А грех свой отмолишь, пусть митрополит епитимью наложит. И я молиться сегодня буду, что такой грех на себя взял.
Это было для меня так неожиданно, что я даже не нашел, что ответить царю, лишь заверил, что все будет по христианскому обычаю.
Когда же приехал после этого разговора к митрополиту, тот кричал на меня, топал ногами, грозил анафемой, но против воли царской, зная о судьбах предшественников, не пошел. Однако потребовал, чтобы в этой школе был свой священник, который станет следить за всем, что у нас делается.
Довольный проведенным днем, я приехал домой, где меня, оказывается, уже ожидал отец Варфоломей. Он с грозным выражением лица потребовал немедленно пройти к нему и исповедаться в своих многочисленных грехах. Каким образом его уже известили о нашей беседе с митрополитом – для меня было загадкой. Но пришлось послушно идти в церковь и отвечать на вопросы типа: не от дьявольских ли происков и нечистой силы появились мои желания, не пошатнулась ли моя вера в Господа Иисуса нашего, раз мертвых людей резать хочу? Пришлось еще два часа вести разговор с отцом Варфоломеем, хотя тот, уже наглядевшись всего, что творилось у нас на подворье, стал гораздо менее придирчивым, чем раньше, когда он, увидев где-то поднимающийся черный дым, бежал посмотреть, не бесовский ли какой обряд исполняется. Наконец он сам, утомившись от назиданий, отпустил меня.
Я по уже ставшей обычной привычке не мог пройти мимо своей ювелирно-кузнечной мастерской. Основную работу уже закончили, и все расходились, думая, что меня сегодня не будет. Так что когда я зашел в мастерские, почти во всех помещениях никого не было. Только неугомонный Кузьма сидел за шлифовкой своих линз. Дельторов весь удачный хрусталь, полученный в двух последних варках, отдал ему. И сейчас Кузьма пытался сотворить что-нибудь путное. Он с удивлением рассказал, что это стекло оказалось «мягче» прежнего, гораздо лучше обрабатывается и шлифуется. А потом вытащил из-под верстака медную трубку около метра длиной, сделанную из двух половинок, и подал мне.
У меня по спине побежали мурашки: я держал в руках подзорную трубу.
Выскочил на улицу, посмотрел в наступающих сумерках на дом – и действительно, он сразу оказался почти рядом, конечно, изображение было перевернутым и не очень ясным. По краям линзы бродили радужные переливы. Но это была подзорная труба!
– Кузьма, ну-ка давай рассказывай, как это получилось?
– Так, Сергий Аникитович, я и сам не понял, что сотворил. Вроде вначале хотел трубку сделать, чтобы удобнее держать. А когда две трубки сделал, решил их вставить друг в дружку и посмотреть, чего получится. А оно вишь как оказалось, почему-то вверх ногами все.
– Слушай, Кузьма, кажется мне, чтобы все не было перевернутым, нужно еще одну линзу между этими двумя поставить.
Не успел я это сказать, как ювелир несколькими движения разобрал прибор и лихорадочно начал перебирать на своем столике стекла.
– Кузьма, хватит на сегодня, темно ведь, завтра утром займешься этим делом.
Но тот посмотрел на меня такими жалобными глазами, что я махнул рукой и ушел.
Пусть этот фанатик делает, что хочет, по крайней мере, лавры Галилея он уже себе забрал.
Дома меня заждались, и как только я появился, все закрутились вокруг. А мне сегодня было уже не до ужина и не до жены. Заснул я прямо за столом.
Утром, прежде чем ехать в думу, заглянул в мастерскую. Неугомонный ювелир был тут как тут. Вид у него оказался жутким: помятое лицо, красные глаза. Но он с торжеством протянул мне трубу длиной метра полтора и с извиняющимся видом сказал:
– Сергий Аникитович, добил я это дело, вот только никак труба короче не получается, если короче делаю, ничего не видать.
Я стоял в раздумье, чем бы помочь своему мастеру. В голове мелькали обрывки сведений по программе физики за среднюю школу. Ага, вот оно! В биноклях же ставят призмы, чтобы удлинить фокусные расстояния. И я начал объяснять Кузьме, как выглядит призма. Тот никак не мог понять, почему свет в этой призме должен куда-то поворачиваться, но попробовать сделать призмы обещал. Правда, прозрачное стекло уже все подходило к концу, и нужно было ждать, когда в вотчине заработает новая печь.