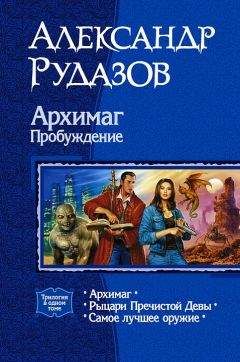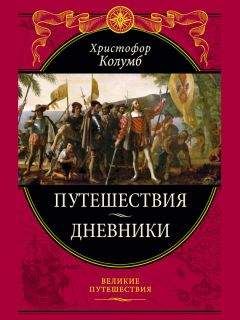Из холодного озноба сразу бросило в жар. Мало было сказать, что граф удивил. Он ошарашил. Елбон ощутил себя малой букашкой. Он ни разу не поинтересовался фамилией столь замечательного узника, как граф, а тот-то, оказывается, все прозревал острым глазом! Удивительный господин.
– Хорош! – не смущаясь чрезвычайной скудостью света, оценил граф физиономию Елбона. – Чуть-чуть подработать – и настоящий арап, а?
Елбон ничего не понял, но обращение «уважаемый Топчи» оценил по достоинству.
– Ему, барин, его бог не велел убивать, – с укоризной неизвестно по чьему адресу возразил Еропка, но нисколько не смутил этим графа.
– Зато находиться возле места убийства, наверное, не запрещал?
Глава двенадцатая,
в которой на земле и под землей происходят многие события, убедительно доказывается, что не всякий арап черен от рождения, а Еропка в который раз ужасается
Сегодня Нил с абсолютной ясностью понял: он не доживет до конца смены. Если не помрет, так не сможет двинуться, и надсмотрщик, углядев отсутствие мальчишки, пальнет раз-другой вдоль штрека и избавит от мук. Штрек низкий и узкий – крысья нора, а не штрек. Пуля не заплутает.
Не было ни слез, ни отчаяния – кончилось их время. Осталось лишь сожаление: жизнь оказалась слишком короткой и прошла как-то нелепо. А что впереди? Что угодно, только уже не жизнь. Сделанного не исправишь, минувшего не вернешь.
Отдохнул чуток, двинулся ползком вперед, из последних сил налегая на постромки. С первого дня в шахте Нил только и делал, что ползал туда-сюда по одному и тому же штреку, будучи запряжен, как лошадь, в большие салазки с деревянными полозьями. Туда – порожняком, обратно – изнемогая под грузом угля. Сам же и грузил – у забойщика своя работа, а третьему в штреке места не было. Самый тонкий пласт угля, самый низкий штрек… Только ползком. Уголь – волоком. В узкие норы на этом уровне шахты хозяева-аспиды ставили самых низкорослых. Детей – тех в первую очередь.
Остановился. Застонал, потащил. Ясно, что надсмотрщик угостит плетью за плохую выработку. Или ударит ногой под ребра. Места живого на теле уже нет, а он все мучает. Убил бы уж до смерти поскорее, сил нет ждать.
Ох, жисть… Ох, тетушка Катерина Матвеевна, ох, добрый барин…
В трюме «Черного ворона» барин вел с Нилом беседы, утешал: не боись, мол, выкрутимся. Ага, как же… В шахте Нил видел барина всего один раз, да и то мельком – тот вкалывал на нижних горизонтах, там же и ночевал. Едва узнал Нил барина и понял: тоже несладко ему приходится, не выкрутился он. Одни слова. А барин Нила вроде и не узнал вовсе…
Нил полз. Уже совсем близко маячило неровное яркое пятно – выход в штольню. Уже совсем немного оставалось до хриплого окрика стражника и свиста плети…
На первый бабахнувший выстрел Нил вообще не отреагировал – так, отметил про себя, что шумнуло что-то чересчур резко. Наверное, треснуло крепежное бревно. Пусть бы вовсе засыпало проклятую эту шахту. И тут бабахнуло вновь и вновь.
Да что же это там деется?
Нил скинул с плеч веревки. Пополз быстрее. Освещенное пятно увеличивалось, в нем мелькали тени – по штольне бежали какие-то люди. Шумно бежали. Кто-то кричал, гуляло эхо. Вот опять выстрел…
Последние силы кончились в самый неподходящий момент, когда до штольни оставался какой-нибудь аршин. Все закачалось перед глазами. Подломились руки в локтях. Со слабым стоном Нил распростерся ничком у выхода из штрека, успев принять краешком уплывающего сознания чей-то знакомый голос:
– Ты! Живо сюда. Бери на плечо и тащи. Гляди, башкой за него отвечаешь! Да погляди сперва, нет ли еще кого в штреке…
Его вытаскивали из норы, с кряканьем вскидывали на плечо, куда-то тащили, но Нила это уже не интересовало. Сознание оставило его.
Несколькими минутами ранее и несколькими горизонтами ниже произошло следующее.
Середины двенадцатичасовой смены всегда ждали все: рабы – потому что в этот час им полагался короткий отдых; надсмотрщики – потому что их смена длилась не двенадцать, а всего лишь шесть часов. Свободный сын племени фиордов не раб – орудие его труда плеть, а не кайло, и он по справедливости трудится вдвое меньше презренного двуногого скота. Никто не вправе заставить его спускаться под землю, где место, собственно, червям да пленникам, – он служит добровольно, за жалованье. Шесть часов подряд погонять ленивых рабов да все время быть начеку, чтобы случайно не повернуться к ним спиной, – достаточно утомительная работа, чтобы не мечтать о смене вахты, о солнечном свете, о первой и оттого особенно вкусной кружке доброго пива и бабьих взвизгах в ближайшей таверне.
Скучно стоять. В спертом воздухе висит и никогда не осядет мельчайшая угольная пыль, и мутно светятся карбидные фонари, похожие на желтки в глазунье. Давно опротивело дышать сквозь тряпку. Холодно, волгло. Меховая одежда сыра и черна. Кусают вши и блохи – опять рабы натрясли. Сколько еще ждать? Без особой нужды надсмотрщик вытягивает плетью какого-то раба поперек тощей спины, затем вразвалку шествует к ближайшему фонарю, тянет из кармана за цепь часы-луковицу и, наблюдая за ходом работ одним глазом, другим зрит в циферблат. Еще прорва времени. Э-хе-хе…
Чем ближе смена, тем сильнее нетерпение и слабее внимание. Но не только это обстоятельство учел граф Лопухин, назначив начало операции (он не любил слово «восстание») на строго определенный час – пятый от начала смены. Вторая смена углекопов – та, что спит сейчас без задних ног в старой выработке, – должна успеть хоть немного восстановить силы. Для боя понадобятся все, а вымотавшиеся до предела – не бойцы. Первая же смена устанет еще не чрезмерно…
Толкали вагонетку вдвоем – граф и Топчи-Буржуев. Лодыря и притвору Ефима Васюткина Лопухин прогнал в распоряжение Елисея Стаканова, сказавши изгнанному со значением: «Молчи и терпи. Вякнешь – кишки через ухо выну». Ефим вполне проникся.
Скалился с потолка впечатанный в камень череп стегоцефала. Закутанный в когда-то белый, а ныне черный бурнус арап был на месте, занимая тот же пост, что и вчера. Маленькая – а удача.
Катя мимо арапа порожнюю вагонетку, Лопухин уже успел несколько раз указать пальцем на окаменелость и заговорщицки улыбнуться чернокожему. Один раз приложил палец к губам. Один раз получил удар плетью – на всякий случай. Но не унимался.
И добился своего: после очередного тычка пальцем в направлении черепа доисторической гадины углядел-таки в белках арапских глаз удивление. Чего, мол, хочет этот двуногий червь?
Вагонетка скрипнула и стала. Раб снова приложил палец к губам.
– Много денег, – сказал он по-норвежски и сделал интернациональный жест – потер большим пальцем об указательный. Слывя полиглотом, граф не числил наречие норвежских рыбаков в списке известных ему языков и диалектов, однако в период норвежской кампании выучил две-три сотни туземных слов, не зная, пригодятся ли они когда-нибудь. А об исландском языке знал лишь то, что он похож на наречие норвежцев не меньше, чем малороссийский говор на русский. Оставалось надеяться, что исландскоязычный арап поймет.
Арап понял.
– Много-много денег, – с подобострастным видом закивал Лопухин. – Ты продать. Петербург купить. Я помогать. Музей. Наука. Понимать? Смотри: много хороших денег.
Да ну? Чернокожий надсмотрщик поднял плеть, затем опустил ее. За этот окаменелый хлам кто-нибудь заплатит? Ну, вряд ли. Нет таких дураков. Несомненно, жалкий раб повредился в уме, причем дважды: принял дерьмо за сокровище и вообразил, что, имей находка ценность, он может претендовать на свою долю, достаточную для выкупа на свободу. Глупец!
Раб был знакомый – из особых. Убивать таких запрещалось, серьезно калечить – тоже. Разве что наказать плетью, да ведь им, скотам, этого мало! Наглеют. Выбить ему, что ли, для науки на будущее один глаз и свалить на несчастный случай?
И все же надсмотрщик сделал два шага вперед и задрал голову – а вдруг все-таки ценность, чем Локи не шутит?..
В тот же миг мелькнула выброшенная вперед рука графа с вытянутым указательным пальцем, и арап издал горлом негромкий булькающий звук. Выглядывающий из-за вагонетки Елбон подумал, что это, должно быть, и есть таинственный «рукосуй», упомянутый Еропкой. Еще мгновение – и голова надсмотрщика, попавшая в мертвый «замок», с мерзким хрустом повернулась на недозволенный природой угол. Отпущенное тело мягко осело. В воздухе, и без того спертом, распространилось зловоние, и Елбон понял, что надсмотрщик напоследок обделался. Верный знак свыше – переродиться ему навозным червем!
Как ни удивительно, сцена отвратительного убийства не произвела на молодого бурята чересчур сильного впечатления. Пожалуй, даже доставила некоторое удовольствие – как отмщение. И Елбон в очередной раз с грустью понял, насколько он еще далек от духовного совершенства.
Поразмышлять на эту тему не получилось, потому что граф сердито рявкнул на него – вроде и тихонько, зато прямо в ухо: