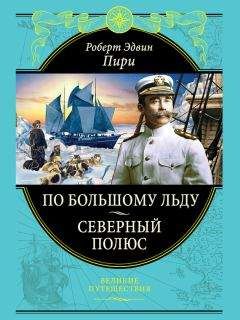– Просто я новый для него человек,– возразил я.– Вспомни, что когда-то, причем не так уж и давно, ты тоже был для него новым, и, скорее всего, кто-то из прежних учителей точно так же возмущался, что из-за твоих эстампи и паван царевич совершенно не думает о дробях и прочих математических действиях. Вспомни-ка.
Квентин ненадолго задумался, затем его лицо озарилось радостной улыбкой.
– А ведь ты говорить правду,– довольно сообщил он.– Я припомнил, именно так оно и было.
– Ну слава богу,– вздохнул я, однако прошла неделя, и ревность вновь вспыхнула в Квентине, но на этот раз она касалась... царя.
– Я приметить, еще когда ты зайти к нему в самый первый раз вместе со мной. Он очень странно на тебя тогда смотреть,– пояснил Дуглас.
– А ты с каждым днем делаешь все меньше ошибок в окончаниях слов,– заметил я, пытаясь увильнуть от неизбежных очередных разборок, но все было тщетно.
– Он смотреть так, будто пытается представить тебя как будущий жених царевна,– тянул Квентин дальнейшую нить рассуждений, не реагируя на скупую похвалу.
Я мог бы поведать истинную причину странного взгляда Бориса. Скорее всего, дело заключалось в том самом моем внешнем сходстве с дядей Костей, с которым государь был хорошо знаком в пору своей юности и который даже предсказал ему еще тогда, более чем за четверть века, царский венец.
Нет, думается, он не пытался вспомнить, где и когда ему встречался человек, разительно похожий на нынешнего учителя царевича. Это как раз навряд ли – слишком цепка была его память, чтобы нужное имя не всплыло в его голове уже в первые минуты нашей встречи, когда царь вздрогнул, испуганно отпрянул, завидев меня, и даже пару раз с силой потер рукой левую сторону груди – не иначе как защемило сердце.
– Феликс,– медленно, чуть ли не по слогам произнес Борис Федорович, повторяя мое имя, и после паузы, пытливо поглядывая на меня, заметил: – Ведом мне был один иноземец, кой прозывался Константином. Славный был молодец, да несчастье с ним приключилось. Ох как я тогда по нем кручинился. А ты-то сам, запамятовал я, из каковских будешь?
– Из рода шотландских королей Мак-Альпинов,– отчеканил я, по-прежнему не желая раскрывать свое инкогнито и обнаруживать родство с дядей Костей.
Тем более помимо гордости тут уже добавилась дополнительная причина. Мне и так уже во время первой встречи царевич пришелся по сердцу, а если еще и отец его всю душу мне раскроет...
«Нет уж, парень,– твердо сказал я себе,– помни про мокрый асфальт и зарок не пускать никого в свое сердце, который ты сам себе дал. Хватит и одной боли, от которой ты чуть не сошел с ума. Световид, конечно, мудрый старец, но не все его советы мне подходят. А уж Годуновых как потенциальных покойников, которым осталось чуть больше года, к себе в душу пускать тем более нельзя – ни старшего, ни младшего».
И я, подстраховываясь, чтобы государь не спросил моего отчества, иначе обязательно насторожится, услышав про отца Константина, припомнил Тверь и рассказ Квентина. Конечно, далеко не все, но и пятой доли хватило, чтобы лихо закрутить сюжет насчет своих предков.
И пускай я и не говорил этого впрямую, но преподнес все так, что Борис Федорович, по всей видимости, решил, будто Малькольм был прадедом не Феликса, который мифический младший сын короля Дункана, а моим. А чтоб царь не начал ничего уточнять, пошел сыпать именами, включая родителей Дункана, и лишь увидев, как Годунов приуныл, перевел дух и вежливо заметил:
– Словом, о своих пращурах можно рассказывать долго, но не следует отвлекать венценосную особу от важных государственных дел.
– И то правда,– с некоторым облегчением вздохнул царь.– Да мне и без того понятно стало, ведь тот-то фряжского роду был, а ты, вишь, шкоцкого.– Разочарование на усталом лице Бориса Федоровича было написано столь явно, что мне на секундочку даже стало жаль этого измученного заботами человека.
Но только на секундочку.
– А ты, княж Феликс, часом, не православный? – неожиданно сменил тему Годунов.
– Увы, государь.– Я сокрушенно развел руками.
Хоть в этом я не солгал и не покривил душой. В моего отца советская школа вбила столь устойчивое неприятие любой религии, включая и само существование бога, что Алексей Юрьевич так и остался убежденным атеистом. Не уверовал он и потом, невзирая на новые веяния и пример партийной элиты, в одночасье перекрасившейся в демократов и резко возлюбившей Христа, что, впрочем, не мешало этим людям на практике ежедневно и со смаком плевать на все его десять заповедей.
Скрепя сердце мой отец допускал иконки на тумбочках больных, игнорировал крестики на их шеях, но освящать новую клинику, которую возглавил, отказался напрочь. Правда, в публичные дискуссии не вступал и вообще предпочитал помалкивать, когда речь заходила о святых, чудесах и прочей белиберде, как он называл все это, зато в беседах с домашними отводил душу сполна, особенно со мной как с «неокрепшим умом».
Я не стал, подобно отцу, воинствующим безбожником, однако благодаря именно разговорам с ним придерживался стойкого нейтралитета – бог, если и есть, сам по себе, а я сам по себе, что же до религии, то тут я и вовсе оставался убежденным скептиком. Впрочем, с подачи дяди Кости Екклесиаста-проповедника и еще кое-что из Ветхого Завета я прочитал. Да и евангелия, хотя и бегло, но разок прочел. Правда, чисто из спортивного интереса, не более – очень уж хотелось проверить, насколько справедлива папина критика.
Надо ли говорить, что с таким папой никто и не заикался о крещении сына, опасаясь скандала. Но предстать перед царем вовсе не крещеным мне не хотелось – тогда выходило, что я вообще не христианин, а черт знает что. Потому в своем ответе Борису Федоровичу я отделался неопределенным отрицанием, позволяющим считать, будто отношусь к протестантам. Удачно вставленная мною в речь якобы цитата из Кальвина, выбранного по причине практически полного отсутствия его приверженцев – из протестантов в Москве жили преимущественно лютеране,– позволяла даже более конкретно определить мою приверженность к швейцарскому течению.
– А окреститься в истинную веру ты бы не хотел? – осведомился царь, но вид у него был отчего-то раздосадованный.
– О том еще рано вести речь, государь,– вежливо уклонился я.– Мне так мыслится, что спустя полгода, возможно, у меня и возникнет подобное желание, а пока что надлежит присмотреться к обрядам, обычаям, постам и прочему. Да и вообще, философия – наука, коя требует не спешки, а рассудительности в словах, осмотрительности в делах и неторопливости в поведении. Хорош же я буду, если как учитель стану рассказывать твоему сыну, государь, обо всем этом, а на деле поступать совершенно иначе.