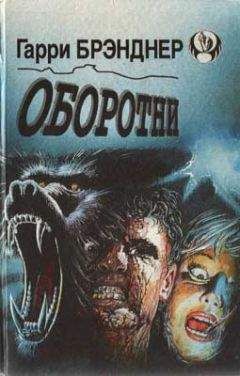Сразу после ледохода я нанял лодку шестивесельную и отправился на ней вверх по Днепру, потом по Десне и Сейму. Может быть, из-за сильного разлива рек берега казались незнакомыми. Разве что места слияния Десны с Днепром и Сеймом узнавал сразу. Киев стал меньше, превратился в провинциальный город. О былом величии напоминали только большое количество соборов и церквей, по большей части неухоженных. Зато Чернигов разросся, сильно выполз за крепостные стены. Там, где я в тринадцатом веке на полях бил врага, теперь стояли дома. Недавно город отошел по мирному договору к полякам, чему местные жители не шибко обрадовались, несмотря на то, что ходят слухи, будто Чернигов получит Магдебургское право. Большинство жителей понятия не имело, что им даст это право, зато наглость католических священников и монахов порядком напрягала. Доминиканцы захватили два главных городских собора, Борисоглебский и Успенский, а вопросы веры в эту эпоху быстро доводят до войны.
По мере приближения к Путивлю появлялось все больше пожарищ, брошенных деревень и заросших березками полей. Вестовую башню заметил издали. Она вроде бы не изменилась. Зато Детинец, Молчанский монастырь и Посад изменились сильно. Детинец и монастырь обзавелись каменными стенами и башнями, а Посад стал больше и лишился деревянных стен. Вместо стен был вал высотой метров десять, укрепленный плетнями из хвороста и с плетеными турами по верху, между которыми стояли разнокалиберные, но не более шести фунтов, фальконеты и гаковницы. Вал начинался от берега реки Сейм выше по течению и возвращался к нему ниже по течению, образуя неправильный полукруг. В валу было пятеро ворот с надвратными башнями: двое на юге, Монастырские и Посадские, на востоке Рыльские, на севере Глуховские, на западе Конотопские. От последних трех начинались дороги, ведущие к этим городам.
На Подоле перед валом стояли новые деревянные дома. Только в дальнем от пристани конце еще чернело несколько пожарищ. Пристань была старая, почерневшая, с душком гниющего дерева. Мне даже показалось, что это та самая, на которую я ступал четыре века назад. На этот раз меня встречало всего два человека: таможенник — низенький круглый мужчина лет сорока двух, напоминающий бочонок, втиснутый в червчатый зипун и с приколоченной сверху бобровой шапкой, выкрашенной по польской моде в желтый цвет. На ногах узконосые сафьяновые желтые сапоги, украшенные вышивкой красными и черными нитками. Наверное, вышивавший собиралась изобразить петуха или жар-птицу, но на сморщенных голенищах гляделось, как перееханная автомобильным колесом ворона. Несмотря на любовь к польской моде в одежде, таможенник был с густой темно-русой бородой, немного раздвоенной внизу. Его сопровождал бородатый стрелец с бердышом, который он положил на правое плечо ратовищем. Длина ратовища была примерно метр семьдесят, а лезвия — полметра. Лезвие было за спиной и повернуто вниз. Кинжал в деревянных ножнах висел на широком кожаном ремне слева, где обычно цепляют саблю. Зипун и шапка на стрельце были из серой дешевой шерстяной ткани, а сапоги тупоносые, растоптанные и оба, просящие каши. Таможенник, увидев, что в лодке нет товаров, сразу как бы наполовину сдулся.
— Зачем пожаловал… — он запнулся, подбирая правильное обращение, что в эту эпоху очень важно, — …шляхтич?
— Дело у меня к воеводе князю Мосальскому, — ответил я.
— У себя он, — махнул таможенник рукой в сторону ворот, ведущих в Детинец.
Оставив вещи в лодке, я отправился с Ионой в Детинец. Стоявшие у ворот четверо стрельцов, тоже вооруженные бердышами, но еще и саблями, а в приоткрытой караульной видны были стоявшие в козлах мушкеты, которые здесь называют пищалями. Я сказал страже, что иду к князю, после чего мне разрешили войти в ворота, ставшие уже, одностворчатыми и усиленными толстыми листами железа, покрытого дегтем, чтобы медленнее ржавело.
Внутри крепости все дома теперь каменные, только у нескольких второй этаж был деревянный. Княжеский двор перестал быть единым комплексом, превратился в несколько разрозненных домов. Возведенный когда-то по моему проекту княжеский терем перестроили. Судя по смешению стилей, делали это несколько раз. Я бы его не узнал, если бы не выложенная каменными плитами дорога от крыльца терема к Вознесенскому собору, проложенная по моему приказу и порядком углубившаяся в землю.
На крыльце стоял сухощавый мужчина лет тридцати шести с наголо выбритой головой, растрепанными длинными усами и короткой бородкой, одетый только в белую рубаху с красной вышивкой по вороту и подолу и темно-красных портах, заправленные в короткие темно-коричневые сафьяновые сапоги. Размахивая руками и громко крича, он наблюдал, как юноша лет тринадцати выезживает чалого жеребца-четырехлетку. Позади сухощавого стоял высокий и плотный мужчина лет пятидесяти, седобородый, одетый даже как-то подчеркнуто строго во все черное, из-за чего походил на английского протестанта. Серые глаза его смотрели насторожено из-под выпуклых надбровных дуг. Немного поодаль от крыльца зрелище наблюдали с десяток стрельцов и раза в два больше слуг.
Как мне рассказали, в Путивле сейчас два воеводы. Обоих зовут Андреями, но первый — князь Мосальский, ведущий род от черниговских князей (Мосальск — удел Козельского княжества), а второй — худородный, пробившийся из стрельцов, по фамилии Усов. Судя по всему, сухощавый в рубахе — это первый воевода. Князю можно ходить, в чем угодно, особенно, если он единственный князь в округе.
— Куда, куда?! Держи его! — прокричал Андрей Мосальский и добавил несколько выражений из кладовой сакрального богатства русского языка.
Конь и юноша испугались его криков, после чего первый встал на дыбы, а второй вылетел из седла в лужу, которая осталась после вчерашнего дождя.
— Квашня! — изрек приговор князь, после чего изволил заметить меня. — Кто такой?
Я представился, протянул ему подорожную. Князь Мосальский был первым, кому ее показывал. Раньше всем и так было ясно, что я человек знатный, еду по делу, поэтому никого не интересовала моя подорожная.
Князь читать умел хорошо. Быстро пробежав глазами текст, воскликнул восхищенно:
— Ты под Хотином сражался?! Здорово вы там врезали басурманам! Надолго забудут дорогу к нам!
— Да, хорошо повоевали, — согласился я.
— Пойдем ко мне, расскажешь! — приобняв меня, как старого приятеля, князь потащил в дом, крича на ходу прислуге: — Медовухи в мою комнату! Быстро!
Его комната — это мой бывший кабинет. Правда, я не сразу узнал его из-за обилия икон, которые в большом количестве и без всякой системы висели на стенах. При этом князь, войдя, не перекрестился даже на икону святого Андрея, своего покровителя, висевшую в красном углу. Под иконой чадила вычурная лампада из металла, похожего на золото, благодаря чему комната была наполнена запахом сгоревшего конопляного масла. Стол был похож на мой (другой бы не поместился), а вот вместо стульев и кресел стояли лавки, застеленные черным рядном с красным узором.
Усадив меня с одной стороны стола, Андрей Мосальский расположился напротив и потребовал:
— Рассказывай с самого начала и подробно!
И я рассказал быстренько, часа за два. За это время мы осушили трехлитровый кувшин медовухи и съели два блюда пирогов и расстегаев с самой разной постной начинкой, поскольку до Пасхи оставалось две недели. В комнату тихо, стараясь не привлекать внимание, зашел юноша, неудачно выезжавший коня и успевший переодеться, и сел в углу. Медовуху ему князь не дал, но пару пирогов юноша взял, когда слуга принес их во второй раз.
— Это мой сын Иван, — представил юношу князь Мосальский, когда я закончил рассказ. — Не любит он лошадей, и они его. Как будет службу царю-батюшке нести?!
Нынешний царь-батюшка Михаил Романов намного моложе князя.
— Пусть в пушкари идет. Будет царевым огневым боем командовать, — подсказал я. — Научу его этой премудрости.
Мое предложение настолько заинтересовало юношу, что у него даже рот приоткрылся и загорелись глаза.