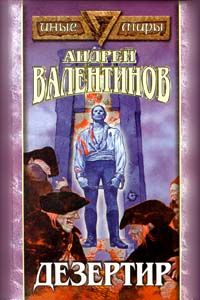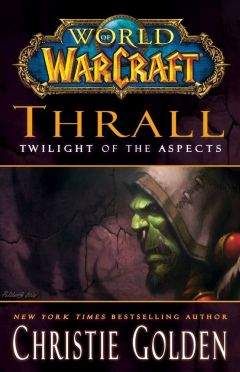— Рабочему человеку, признаться, с этой трибуны выступать страшновато. Мы и говорить-то правильно не умеем. Речь должна состоять из экспозиции, констатации, аргументации… Дальше не помню, подскажите, граждане!
Зал молчал, и лобастый вновь развел руками.
— Я и говорю — трудно. Знаете, когда на Вормском рейхстаге Мартина Лютера хотели арестовать и сжечь, на дверях собора появилась листовка. Там было написано примерно так: «Я не могу красиво говорить в защиту доктора Лютера, но у меня под рукой десять тысяч вооруженных парней». Нас в Сен-Марсо несколько больше…
На миг зал словно проснулся. Шум хлестнул в окна, достиг высокого потолка — и снова стих. Ножан спокойно ждал, скрестив руки на груди.
— Будем считать это экспозицией, граждане. Теперь к делу. Мы здесь, чтобы внести некоторую ясность. Нас, рабочих, почему-то считают, во-первых, попрошайками, каждый день просящими хлеба, а во-вторых, людоедами, которым надо ежечасно швырять отрубленные головы…
Зал молчал. Я мельком взглянул на Вильбоа. Тот быстро водил карандашом по бумаге, не сводя глаз с трибуны. Гражданин Тардье высунулся из своего кокона и прилип к барьеру, вцепившись ручонками в плюшевое покрытие.
— Тут явное недоразумение, граждане! Хлеба мы не просим. Хлеб и все прочее мы покупаем за собственные деньги, которые честно зарабатываем. Просим же мы — или, ежели хотите, требуем, — чтобы хлеб этот в Париж регулярно привозили и продавали по справедливой цене. В октябре 89-го мы уже приходили к вам по этому поводу. Тогда нам посоветовали штурмовать Версаль, чтобы потребовать хлеб у Короля. Мы так и сделали. Но теперь Короля нет, так что придется разбираться на месте…
— Роялист! — послышался чей-то отчаянный вопль. Ножан покачал головой;
— Вот-вот! Кстати, Король тогда был совершенно ни при чем, поскольку снабжением города занимался муниципалитет. Ну, это к слову… Теперь второе. Мы вовсе не в восторге от изобретения доктора Гильотена, тем более уже сейчас больше половины всех казненных — не аристократы, а беднота. А что будет завтра? Между прочим, когда вы тащите на эшафот женщин и детей за то, что они, видите ли, аристократы, это и в самом деле похоже на людоедство…
На этот раз кричали долго. Лобастый спокойно ждал, наконец легко хлопнул широкой ладонью по трибуне.
— Полгода назад бедняга Жак Ру уже пытался вам это объяснить. Теперь он в тюрьме…
— Не за это! — проорал кто-то, вскакивая с места. — Ру — изменник!
— Еще бы! Он был настолько откровенен, чтобы признать очевидную вещь: при Старом порядке рабочим жилось лучше…
В ответ послышался даже не крик — рев. Кролики, забыв страх, вскакивали, размахивали руками, в толпе мелькнул уже виденный мною турецкий кинжал…
— Вы бросили его за решетку, вместо того чтобы спросить: а, собственно, почему? Почему в Париже безработица, почему за ассигнаты нечего купить, почему рабочие голодают? Может, мы просто лодыри?
— Это временные трудности! — с места вскочил некто, высокий и худой, как жердь. — Нельзя падать духом, гражданин Ножан!
— Да мы и не падаем, — лобастый, похоже, весьма удивился. — Достаточно подсчитать, сколько добровольцев выставили мы, а сколько — буржуазные секции. Кто воюет в Вандее? Кто сейчас штурмует Тулон? Гражданин Карно, вы здесь? Подтвердите!
Шум постепенно стих. То ли у кроликов проснулась совесть, то ли они догадались взглянуть на ряды молчаливых парней с мушкетами, застывших в проходах.
— Да, мы не умеем красиво говорить. Зато считать научились. Давайте посчитаем…
В руках Ножана появился листок бумаги.
— Итак, пять лет назад Париж производил следующее…
Это было уже непонятно, по крайней мере для меня. Структура производства, объемы экспорта, масштабы товарооброта, Льежские ярмарки, поставки в Англию и Голландию… Ножан говорил легко, почти не заглядывая в бумагу, и я понял, что он хорошо подготовился. Странное дело, его слушали. Более того, кое-кто пытался поправлять, подсказывать. В конце концов даже я начал понимать — Сен-Марсо и Сент-Антуан работали на экспорт: мебель, тонкое полотно, дорогие безделушки, даже перчатки для лондонских денди. Теперь война, Франция отрезана блокадой, а Республика, Единая и Неделимая, не спешит с новыми заказами. Рабочие готовы выпускать все, что требуется, но правительство предпочитает платить втридорога за контрабанду и товары из далекой Америки.
— Выходит, мы вам не нужны? — Ножан спрятал бумагу и обвел глазами зал. — Будь здесь гражданин Тюрго, он бы подсказал, какую часть дохода мы приносили бюджету Королевства Французского!
— Это временно! — вновь вскочил длинный. — Поймите, гражданин Ножан, нужно немного потерпеть…
— Да! Да! — подхватили голоса. — Нам всем трудно! Похоже, так думали все же не все. По залу пронесся смешок. Ножан тоже улыбнулся.
— Сочувствую, граждане! Но вам все же платят по восемнадцать ливров в день. Не много, конечно, но дожить до лучших времен все-таки можно… Знаете, обычно говорят: когда нечего дать, дают свободу. Так вы когда-то и сказали Королю. Но почему вы не хотите дать свободу нам? Вы отправили на гильотину Ле Шапелье42, но его закон живехонек…
Теперь слова падали тяжело и мерно. Запрет стачек, запрет рабочих союзов, максимум заработной платы, полицейский контроль над секциями, Конституция, которую приняли, но забыли ввести в действие. И — аресты, аресты, аресты…
Я затаил дыхание. Все верно! В этих словах было что-то знакомое, уже слышанное…
— После того, как вы арестовали беднягу Ру, у меня была интересная встреча. С одним роялистом…
Ножан спокойно переждал яростные крики зала. Похоже, слесарь лукавил — оратор он был превосходный.
— Этот роялист — очень смелый и очень умный человек. Он сказал мне приблизительно то же, что вы слышали. И предложил подумать. Догадываетесь, о чем?
Догадаться было несложно. И прежде всего мне. Имя в списке! Мечта маркиза Руаньяка — санкюлоты под белым флагом! Похоже, мы уже были знакомы с гражданином Ножаном…
— Он добавил еще кое-что. Вы, Третье сословие, каждый раз бросаете в бой нас, рабочих. Мы, Четвертое сословие, брали Бастилию и Тюильри, мы изгнали бриссотинцев, мы воюем на фронтах, льем пушки, делаем порох. А что взамен? Как вы думаете, он прав или нет?
В этот миг мне показалось, что Ножан смотрит прямо на меня. Конечно, такого не могло быть, слишком далеко трибуна, но я невольно отвел глаза.
— Долой! Долой! С трибуны! — депутаты вскочили с мест. — Вне закона! Вне закона! Долой красное знамя!
— Вот я и говорю, — невозмутимо кивнул Ножан. — Позавчера вне закона Марат, вчера — Ру, сегодня — я. Не нравится красное знамя? Почему?