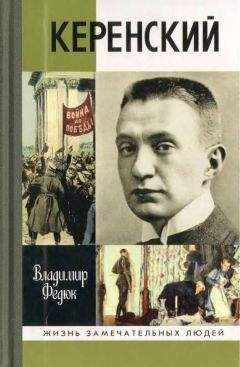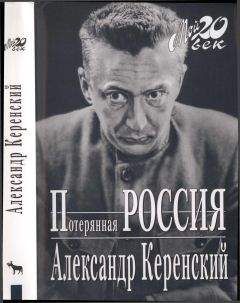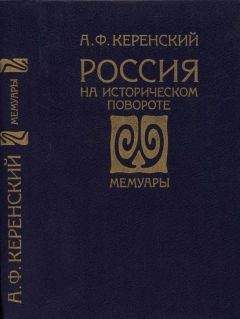От этой политической каши дико заболела голова, ушибленная лошадью. «Во всём виновата кобыла», — подумалось Керенскому, — «Хорошая такая кобыла, в яблоках, с длинным жёстким хвостом».
Неожиданно вспомнилась байка про девушку, которой нарастили волосы в парикмахерской. Там они казались чёрными и мягкими, а по приходе домой, через несколько дней, остались чёрными, но мягкость волшебным образом испарилась. И тут вскрылся обман: волосы-то были конскими, что Алексу тогда показалось смешным, а вот девушке явно было не до смеха. Так им, кобылам, и надо!
Вот и сейчас хотелось крикнуть, что во всём виновата лошадь! Лошадь, конечно, виновата в его появлении здесь. Не исключено, кстати, что за рулём «крузака» тоже сидела «кобыла», однако сейчас надо кидаться обвинениями, а что-то делать.
«А министр-то не настоящий!» — вспомнилась фраза из фильма. Так ничего и не решив, Керенский лёг спать. Сквозь сонную одурь иногда прорывались только редкие ружейные выстрелы, доносившимся от окна.
Тяжело вздохнув, он сказал сам себе:
— Хватит валяться, пора за дело браться! Время не ждёт! Надо брать власть, надо разговаривать, надо вникать! — Привычный уклад жизни снова стал его ипостасью, и, весь в предвкушении будущей борьбы за власть и деньги, он заснул.
Глава 3. Народ
"Борьба с мещанством — это борьба с абсолютным большинством, которое хочет нормально жить сегодня, а не нищенствовать в ожидании прекрасного завтра." Лев Сиднев.
Извозчика, который отвёз Керенского домой, звали Никанор Хренов. Высадив своего пассажира, он домчал поручика с приятелем обратно к Таврическому, получил серебряный рубль за услуги, а затем принялся разъезжать по близлежащим улицам в поисках других клиентов. Ему удалось развести еще несколько случайных пассажиров, пока не стало смеркаться.
Последний рейс мужичок совершил на Литейный проспект, где высадил пожилую чету и отправился обратно на извозчичью станцию. Только по пути завернул в знакомый проулок, где в подвале доходного дома жил его дальний родственник Пахом Мордасов.
Оставив экипаж недалеко от входа в четырёхэтажное здание, извозчик зашёл в парадную, где и дежурил возле печки дворник Пахом.
— Привет, Пахом!
— И тебе не хворать, Никанор!
— Всё греешься, бездельник, пока другие спину горбатят?
— Ента ты, что ль, Никанор, горбатишься? Удивил, удивил, неча сказать. Ента лошадь у тебя горбатится, а не ты, дубина стоеросовая. Хоть кормишь свою клячу иногда?
Никанор не стал отвечать на столь глупый и оскорбительный вопрос. Как же кормилицу свою голодом морить! Чай, не злодей какой, да и животина умная и полезная, грешно с ней так поступать.
— Ты чего такой злой сегодня, Пахом? Полиция перестала тебе платить за соглядки? — поддел родственника извозчик.
— Кто бы говорил! Недаром ты по центру колесишь, а не трёшься на Васильевском или на Крестовском острове. Всё сливаешь господам хорошим.
— Ну, точно, перестали платить! Да и мне уже, признаться, перестало перепадать. А то, глядишь, когда и серебрушку какую заработаешь у господина пристава. А сейчас всё больше стволом в спину тычат, да обмануть норовят.
— Так ты, небось, Никанор серебром норовишь взять, а не бумажными рублями?
— Если можно было бы, так и империалами брал.
— Дык кто ж тебе их даст! — рассмеялся в ответ Пахом, выйдя из своего хмурого состояния, в котором пребывал с самого утра.
— Вот то-то и оно, кляузник ты грешный. Даже мелкого золотого пятирублёвика никто не сыпанёт извозчику, а ведь и есть за что. Вот хотя бы за рыск.
— Да, рыск сейчас есть, — признал Пахом. — Эээ, это ты ещё не знаешь всего, Никанор. Тут такое иногда происходит, — и Пахом опасливого оглянулся, прислушался, не открыл ли кто дверь на этаже и не спускается ли сверху по лестнице. Убедившись, что всё вокруг тихо, он продолжил.
— Ты что, сам не видишь, что происходит? Это для них, господ-то наших энта леворюция наступила, а…
— Да что ты так, Пахом, боишься. Эх, темнота! — Никанор деланно махнул рукой, скаля жёлтые, прокуренные, но ещё крепкие зубы. — Леворюция наступила, царя скинули, теперь заживём, хлеб с сахаром пожуём.
— Оно-то так, — согласился с ним Пахом, — но я опаску имею.
Никанор, глядя на здорового, как бугай, Пахома, внутренне улыбался. Дворник при помощи полицейского свистка и здоровой метлы мог шутя обратить в бегство двоих-троих грабителей с ножами, но как огня боялся новых перемен. А его родственник, между тем, продолжал высказывать свои опасения.
— Сейчас, Никанор, все с оружием ходют, что господа идейные, что всякая шушера уголовная. Ентих убивцев и греховодников под общий шумок из тюрем выпнули, а оне таперича ходют гоголем да грозятся. Говорят, мол, что, старый хрен, выслуживаешься? А леворю… тьфу! Народную, всмысле, пулю не хочешь в лоб получить? Ты же за царя был, мерзавец, а ноне другой порядок! Всё можно! Сдохни, говорят, дворянский шкурник, или переходи на их, дескать, сторону. Во как!
— Собаки, они и в леворюции собаки! — Пахом зло сплюнул, прищурив левый глаз от яркого света огня печки. Выстрелило искрой свежее берёзовое полено, зашкворчала береста на нём и пыхнула струйкой огня, потом снова равномерно загудело. Помолчав, Пахом продолжил:
— По мне, Никанор, надобно, шобы порядок был, да деньгу в срок и исправно платили. Остальное всё чушь собачья. Ты вот, вроде грамотный?
— Так это… буквы знаю, по слогам читаю, — почесал смущённо в затылке извозчик.
— А вот скажи, что в газетах пишут?
— Так не пойму я. Леворюция! Военный займ! Временное, туды его, правительство! Остальное-то и не разобрать по-человечески. Словеса плетут енти социалисты, простому человеку ни в жисть не понять. Да ещё партии их всякие, меньшевики, какие-то, эйсэры.
— Да, эсеры за землю! А про большевиков слышал?
— Да, слышал от рабочих, там они пасутся, агитаторы ихние, но понять ничего невозможно, когда говорят на своём. Как будто талмуд талдычат. Маркс, социализм, трудно там понять что-то. А так, конечно, они большевики же, значит, за ними больше правды, чем за меньшевиками и другими.
— То так, — согласился с ним Пахом. — А обещають что?
— Так многое обещают, землю отнять и поделить, да рабочий день сократить.
— А о войне?
— Войну прекратить, нечего этим, как их, эксплуататорам, на нас давить.
— Да, дело-то благое. Царя-то скинули, может, и вправду землицей крестьянина пожалуют. А землю и эсеры обещали отдать.
— Молчат чевой-то эйсэры твои про землю. Поди, рано ещё говорить о том: власти-то у них пока нету, потому и не знаю, что и думать. Все кричат: Свобода! Свобода! А продукты всё дорожають и дорожають, а плОтить больше господа не желают, сами концы с концами еле сводят. На днясь езжал по Шпалёрной, так там трубы прорвало, говно хлещет, а управы нет, городские разбежались, все боятся. Свобода же. Могеть всё! Поймают и в говне утопят. Всё разваливается, власть у энтих социалистов, у власти нонешней, Петросовета. Полиция вся попряталась, а честному человеку к кому идтить? Или самому за кистень браться?
— Да, пожалуй, что и так, — согласился с ним Пахом. — А почему ты говоришь, что Петросовет правит? А как же Временное правительство?
— Дак, на то оно и Временное, пока то, пока сё, пока слушаться их начнут. А сила щас у кого? Правильно, у Советов ихних. Они захотят исполнять, будут исполнять евойные законы, не хотят исполнять, так говном стены измажут, да пошлют куда подальше любого министра. А неча временными делаться. Во как!
— Да ты, Пахом, не теряйся, — переключился Никанор на другую тему. — Давно уже бы палочку, что покрепче, нашёл, да дом свой охранял. У тебя дамочек же одиноких, да господ хлипеньких много в доме живёт?
— Так отчего же? Полно, конечно, и в первой квартире, и в десятой, и ещё в трёх.
— Так вот, я и талдычу тебе, обойди квартиры-то, да покличь. Мол, так и так, кому охрана нужна, да в мага́зин сходить? Нонче страшно по улицам в одиночку, да по ночной поре шастать. Жизь-та у каждого своя. Кому и приспичит среди ночи, а ты тут, раз, и пожалуйте. Да не рублик серебряный или бумажки эти драные, а половину золотого империала за ночной поход бери.