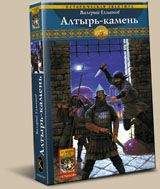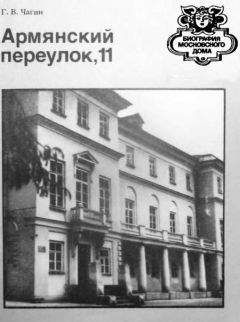Однако, поесть ему таки не удалось. Вошёл, огляделся мельком, не очень пристально — какой интерес смотреть, если перед глазами всё плывёт? Увидел свободный диван, облезлый, жёлтый и наверняка с клопами. Решил прилечь до ужина, и потом долго-долго ничего не слышал и не видел — спал.
Но в какой-то момент вроде бы даже проснулся, по крайней мере, обрёл зрение и слух. Правда, увидел не расплывчатую комнату на постоялом дворе, а черноту. Из этой черноты немигающими, белыми с чёрной точкой глазами смотрело на него жуткое измождённое лицо. Оно шевелило бескровными губами, шептало: «Ведьмак! Я вижу тебя! Я знаю, где ты! Тебе не одолеть меня! Отступись, отступись, или умрёшь!»
Пожалуй, в другой момент эта встреча если бы не напугала Романа Григорьевича, то, по крайней мере, встревожила бы. Но теперь, когда ему было так тепло и хорошо, настроение сделалось блаженно-лёгкомысленным, и от врага рода человеческого, бессмертного олицетворения Хаоса, он отмахнулся как от назойливой мухи.
— Отвяжись, не докучай. Твоя смерть завёрнута в клетчатое кашне моего помощника, агента Удальцева. Я могу прикончить тебя в любой момент, как только пожелаю.
Жаль, Кощей его не услышал. Всё бубнил и бубнил своё «отступись», надоел ужасно. Тогда Роман Григорьевич нарисовал в своём воображении картину, как он оборачивается волком и прыгает на Бессмертного с оскаленной пастью. Тот испугался и пропал.
А Роман Григорьевич от нечего делать стал вспоминать Лизаньку Золину. И снова внутри него принялись спорить два человека — хороший и плохой.
— Вы подлец, советник Ивенский, — сказал хороший. — Несчастная девушка пала жертвой отвратительного колдовства, а вы, вместо того, чтобы хоть пальцем шевельнуть ради её спасения, предпочли отвернуться. Уязвлённая гордость взыграла: скажите пожалуйста, смотреть на него не захотели! Такое сокровище им досталось, а они не оценили, видите ли! — хороший человек был язвителен и зол.
Плохой отвечал холодно и рассудительно.
— Во-первых, о колдовстве я узнал не сразу. Во-вторых, вам, Роман Григорьевич, прекрасно известно, что настоящая любовь влиянию отворотных чар не поддаётся в принципе. Если барышня изволила так легко пасть их жертвой, значит, чувства, что она испытывала к вам, называются как-то иначе: увлечение, симпатия, мимолётная влюблённость, или что там ещё бывает у дам?
Хороший печально усменулся.
— Сами-то вы, положа руку на сердце, разве по-настоящему её любили? Неважно, что чувствовала она, теперь речь о вас. Разве люди отказываются от своей любви так легко?
— Что же мне ещё оставалось, если она не желала меня видеть?
— Вы не должны были отступать! Особенно когда вам стала известна истинная причина отчуждённого поведения Лизаньки. Как только вы поняли, что её вины в том нет, нужно было сразу бежать к ней в дом, пытаться если не вернуть былую любовь (раз уж вы считаете, что таковой не было, и возвращать нечего), то добиваться взаимности на этот раз!
Плохой усмехнулся пренебрежительно.
— О-о, нет, вот уж это увольте! В дом Золиных я больше ни ногой! Экспонатом ярмарки женихов уже побывал — достаточно. Мне более чем ясно дали понять: единственное, что во мне имеется ценного — это папенькино имя и фамильное состояние. Ни то, ни другое, мне лично, по большому счёту не принадлежит. Раз так — надо выбирать барышень по чину.
— Ну-ну! — хороший ухмыльнулся очень гадко. — Вы ещё отбейте первую любовь у бедного Удальцева! С вас станется!
— А это уж как Екатерине Рюриковне будет угодно! Во всяком случае, она выглядит куда умнее Лзаньки. Сейчас последнюю спасает очарование юности, но с летами она наверняка уподобится матери. А графиня Золина, согласитесь, непроходимая дура.
— Почему вы решили, что непременно уподобится?
— Да потому что они и сейчас чрезвычайно схожи внешне, разница только в возрасте.
— Осмелюсь напомнить, милостивый государь, что вы, как выяснилось, тоже весьма похожи на свою мать, и не только внешне. Значит ли это, что в один прекрасный день вы, наплевав на свой долг, бросите службу и семью, и сбежите за границу с певичкой из варьете? Нет? Тогда какое вы имеете право судить о любимой женщине хуже, чем о себе самом? И ещё утверждаете, будто испытывали к ней подлинное чувство!
— Испытывал. Но стараюсь о том забыть. Разу уж пришёлся однажды Золиным настолько не ко двору, что те предпочли околдовать родную дочь…
— Ах, да при чём тут вообще Золины! Вы на Лизаньке собирались жениться, или на её семействе? Мало ли браков свершается против родительской воли? Нужно уметь бороться за своё счастье! Вспомните драматургию, в конце концов! Вспомните этих… ну, как их? Уильям Шекспир написал… Они ещё отравились под занавес…
— Вот-вот! Весьма показательный пример! Нет уж, превращать свою жизнь в слезливую театральную пьеску я не намерен.
— А папенька огорчился бы, если бы узнал, как вы отзываетесь о творчестве Уильяма Шекспира! — мстительно заметил хороший.
— Он не узнает, если вы сами однажды не ляпнете сдуру, — отмахнулся плохой. — И потом, я не о Шекспире, а о своей собственной истории. Каковая, впрочем, и на слезливую пьеску не тянет, больше отдаёт фарсом. «Сыскной пристав или Зачарованная невеста», покойник Понуров в роли главного злодея! Спешите видеть, один день и то проездом!
Хороший брезгливо поморщился:
— Вы, Роман Григорьевич, отвратительный циник.
— Лучше быть циником, чем несчастной жертвой обстоятельств!..
Так и не договорившись с самим собой, Ивенский пробудился окончательно.
Обнаружил себя в комнате, довольно просторной и чистой, правда, бумажки на стенах пообтрепались снизу. Ну, да, по-хорошему, их бы следовало совсем ободрать. Более безобразных обоев Роману Григорьевичу видеть ещё не приходилось: малиновые, если не сказать, багровые, с огромными бронзоватыми розами, намалёванными не бог весть каким искусником, они производили поистине гнетущее впечатление, рождали в душе неизъяснимую тоску. Но здесь, в глухих муромских лесах, их, должно быть, считали верхом великолепия, и обтрёпанные места старательно подклеивали вощёной бумагой.
Впрочем, если отрешиться от мрачных стен, обстановка была недурна, и диван оказался без клопов. Кроме дивана здесь имелись ещё две кровати, на них спали, укрытые по самые носы, Удальцев и Листунов — первого Роман Григорьевич мог видеть лично, второго распознал по характерному свистящему всхрапу. Время от время оба надсадно кашляли. В углу у двери приткнулась вешалка с одеждой, рядом с ней — старомодное кресло на гнутых ножках, не иначе, перекочевавшее, за ненадобностью, из какой-нибудь барской усадьбы. Единственное, чем оно привлекло внимание Романа Григорьевича — это свёртком в красную клетку, лежавшим на сидении; «Цела филактерия, — отметил он с удовлетворением. Под окном стоял стол и несколько городских стульев, за окном картинно падал снег. День был сумрачный, и, не смотря на раннее время, на столе горела свеча, подрагивала от сквозняка. Рядом сидела девчонка лет пятнадцати в сером вязаном платке поверх скучного будничного платья и в валенках на босу ногу (в прореху проглядывала розовая пятка), вышивала на пяльцах. Ивенский даже узор разглядел — нестерпимо яркие петухи. «Приданое готовит», — почему-то взбрело в голову.