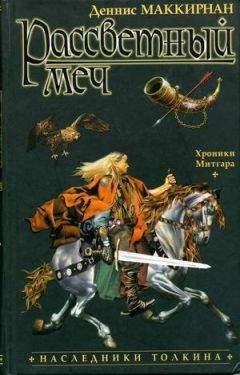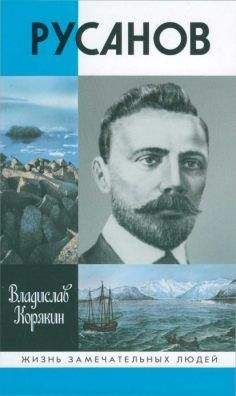То ли за безупречную выправку, то ли за суровый взгляд серых глаз ребята прозвали моего нового соседа Сотником.
Пролаза и баламут Трехпалый даже выдумал душещипательную историю, которой, впрочем, никто не поверил, о романтической любви и коварных интригах, вынудивших бравого вояку искать забвения в разношерстной толпе старателей на отрогах Облачного кряжа. Сказка его, наполняемая всякий раз все более увлекательными подробностями, была сущей ерундой, но на новое имя Сотник откликался.
Дни сменялись днями, складывались в месяцы. Заалели гроздья рябин на южных склонах. Сотник не участвовал в шумных попойках в «Развеселом рудокопе», предпочитая закупать провизию в отдаленном от центра копей, тихом «Бочонке и окороке». При встречах на приветствия отвечал, но кратко. Зачастую — односложно. В беседы не ввязывался.
Как я уже говорил, парни кличут меня Молчуном, и, должен заметить, не без оснований. Но по сравнению с Сотником я выглядел странствующим проповедником, ловящим души в придорожных трактирах. На правах соседа я заглядывал к нему несколько раз и даже поделился опытом, как удобнее и безопаснее крепить рассечки кривыми еловыми стойками, надежнее и быстрее промывать измельченную породу, выискивая дымчатые топазы и золотистые гелиодоры, голубоватые аквамарины и зеленые смарагды. За пять с лишком веков интенсивной разработки прииск обеднел настолько, что некоторым уже начинало казаться выгоднее перелопачивать старые отвалы, чем копаться в дырявых, как йольский сыр, холмах.
Со временем наше с Сотником общение переросло в нечто вроде молчаливой дружбы. Ведь не худо посидеть с трубочкой, набитой душистыми соцветиями тютюнника, провожая взглядом прячущееся за зубчатую гряду близких гор дневное светило.
Как всегда с первыми заморозками, стайки алогрудых зензиверов облепили рябины, а вслед за ними с полудня прибыл отряд сборщиков подати. Убогость горной породы не умерила алчности высокородного ярла Мак Кехты. Вообще, проклятые остроухие терпят нас на своей земле только потому, что сами не хотят рыться в ней, как луговые собачки. И снисходят до общения со смертными лишь два раза в год. Осенью, когда легкий морозец скует раскисшие от проливных дождей дороги, и весной вместе с первой травкой, после того, как спадут вспученные мутной талой водой горные ручьи. Уже много лет прошло с той поры, когда отбираемая ими доля действительно была десятиной. Но разве станет перворожденный сид обращать внимания на такую безделицу? Особенно когда речь идет о его достатке.
Они медленно ехали между участками с жалкими покосившимися лачугами, отмечавшими устья шурфов. Из ноздрей длинношеих, прядающих ушами скакунов вырывались клубы пара. Под изящными, как фарфоровые чашечки, копытами звонко хрустел молодой ледок.
А мы, жалкие насекомые, люди, угрюмо тянулись к истоптанному выгону перед «Развеселым рудокопом». Это место мы гордо именовали площадью. И каждый нес бережно завернутый в тряпицу драгоценный груз — кровью и потом добытые самоцветы. О том, чтобы припрятать камешек-другой или самому скрыться и пересидеть в холмах, не возникало и мысли. Возглавлявший отряд сборщиков Лох Белах отличался суровым нравом и спуску не давал никому.
Под пристальным взглядом его холодных глаз сыпались в кожаные прошнурованные мешки черные шерлы и фиолетовые аметисты, голубые и розовые топазы, жаргоны, сияющие горным солнцем, и гиацинты, напоминавшие окрасом запекшуюся кровь. Кто-то отдавал четверть накопленных за полгода камней, а кто и половину. Голова с мрачным видом стоял подле сидов и, сверяя списки старых должников, поглядывал на перворожденных и на рудокопов снизу вверх.
Списки должников были проклятием неудачников, грозным напоминанием о каре земной, которая всегда готова предвосхитить кару небесную. Не сумевших расплатиться вовремя и сполна на первый раз ждала порка, на второй — изгнание куда глаза глядят. В преддверии студеной зимы это было равнозначно смертному приговору.
Я спокойно ждал своей очереди. Найденный в конце лета смарагд величиной с полногтя мизинца стоил доброй пригоршни ежедневно намываемой мелочи. Прозрачный травянисто-зеленый камешек давал возможность не только выплатить налог нынешний, но и расплатиться по прошлому долгу, при воспоминании о котором зачесались с трудом залеченные рубцы между лопаток.
Время тянулось медленно, как капля меда по крутому боку кувшина. Поволокли к козлам, срывая на ходу рубаху, Трехпалого. Наш записной весельчак, поддерживая с таким трудом созданный у друзей и собутыльников образ, затянул было скабрезную песенку, но вскоре замолчал и прикусил губу… А к Лох Белаху бочком подвалил Карапуз, сыпанул темно-зеленых турмалинов и пару обломков горного хрусталя. Развернувшись, подмигнул мне и направился восвояси. Ему все эти годы везло. Ни одного сезона с неполным или невыплаченным вовсе налогом.
Следующим Желвак подозвал Сотника. Что он мог дать, работая всего-то с начала осени? Десяток кристаллов шпата, несколько шерлов, еще что-нибудь по мелочи. Большего он накопить не мог. Рассчитывать на наследство от Пегаша, с неистовством пропивавшего каждую ночь добытое в дневные часы, тоже не приходилось.
— Недостаточно. Еще один лодырь, — процедил сквозь надменно стиснутые губы Лох Белах. — Наглость людская превзошла меру моего понимания…
— Он просто не мог… — попытался вступиться голова, но сид лениво взмахнул плеткой.
Удар пришелся наискось через губы. Брызнула вишневая кровь. Бедолага Желвак согнулся, прижимая ладони к лицу. А поделом. Не перебивай перворожденного.
— На правеж, — кивнул своим подручным Лох Белах.
Те двинулись к Сотнику, но замялись, натолкнувшись на цепкий взгляд чуть прищуренных серых глаз. Один вдруг решил проверить, крепко ли затянута пряжка перевязи, другой и вовсе наклонился, соскребая ногтем несуществующую грязь с остроносого сапога. Не знаю, что прочитали они во взгляде моего соседа, но сиды страшатся смерти гораздо больше, чем мы, люди. Я бы тоже боялся небытия, будучи бессмертным по рождению.
Заинтересовавшись, Лох Белах шагнул вперед, намереваясь повторно замахнуться плеткой. Но рука, обтянутая тонкой кожей вышитой перчатки, замерла на полпути. Их взоры скрестились, как клинки опытных и бывалых мечников, когда в схватке наступает пауза и каждый боец выжидает, рассчитывая на оплошность противника. Исхудалый, гордо расправивший плечи немолодой человек в латанной не раз одежке и перворожденный сид в изысканной посеребренной броне, прячущий растерянность под маской высокомерия.
Внезапно я перестал слышать людской гомон. Взамен ему с ближайшего холма донеслась дробная россыпь черного дятла. Скрипнула под налетевшим ветерком старая липа, подпиравшая хлев, а стук собственного сердца отозвался в ушах подобно набату. Пальцы, помимо воли, начали сами складываться в Знак Огня. Вряд ли выйдет после стольких лет, но…
Томительная тишина разрядилась резким хлопком плети по овчинному кожушку съежившегося Желвака. Лох Белах, тщательно выговаривая слова ненавистной ему речи, произнес:
— Запишешь в долг до весны.
Сотник перестал его интересовать.
Толпа выдохнула как один человек. Странно, оказывается, я тоже затаил дыхание, сам того не замечая.
К сидам, как всегда чуть приплясывающей походкой, направлялся Пупок. Моя очередь была сразу за ним. Сотник постоял немного, а затем развернулся и медленно пошел к своему участку. Только напряженная спина выдавала ожидание бельта в затылок. Сразу видно человека с дальнего юга. Сид запросто может пытать до смерти пленника, но стрелять в спину…
Сборщики уехали, увозя с собой во вьюках пузатенькие, плотно набитые самоцветами шнурованные мешки. Основу благополучия и могущества своего королевства.
На прииск опустилась суровая, многоснежная зима.
Бураны да морозы, нападения ошалевших от голода волков и вышедших из летней спячки стуканцов.
Но когда накануне весеннего равноденствия первый полуденный ветерок тронул теплым дыханием верхушки холмов, а снег стал сырым и пористым, как плохо пропеченный хлеб, просаживаясь под собственной тяжестью днем и покрываясь на ночь ледяной коркой наста, мы снова увидели Лох Белаха.
Однажды сырые влажные сумерки березозола нарушил дробный топот копыт, доносящийся с нижней дороги. Гулкое эхо подхватило его и понесло между холмами.
Под конец зимы начинаешь лезть на стену от однообразия приисковой жизни. Посему любой повод увильнуть от повседневных забот воспринимается как редкостное счастье. Когда я выбежал на площадь с наспех зажженной еловой веткой, свободных мест в балагане не осталось. У сломанной осины призывно размахивал руками Карапуз. Чтобы пробраться к нему, пришлось основательно поработать локтями.
Цокот копыт приближался. И вот наконец в освещенный кольцом факелов круг вырвался всадник на исходящем паром коне.