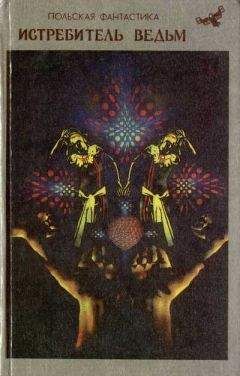Люди на земле, или только вблизи города, этим было почти все сказано, и когда у одного на лице зажигалась радость с ее тусклым оловянным блеском, или другой равнодушно перебирал зерна своей избранной досады, меж ними и всеми иными, теми, что топчут почву от утра и до ночи в поисках их насущной провизии, никогда не проскакивала искра согласия, не завязывались нити соединения. Иногда они тяготились своими именами, своими повадками, своими биографиями, и все свершающееся, монотонное или сверхъестественное, происходило будто не с ними и не в этом мире, но будто в пыльном луче синематографа, вырывающемся из усталых утроб их в пустые и равнодушные окрестности. Безбожность ныне царит над землею, но безбожность, играющая в свои беспредельные игры. Они вполне сжились с канонадами, когда те были от них далеко, но стоило только звукам побоищ приблизиться к их ничтожным жилищам, они тотчас начинали вертеться ужом, мышью прятаться по щелям, вспоминали все свои полузабытые молитвы, сарказмы и заклинания.
И все же: было ли существование их полноценным? Нет, никогда не было существование их полноценным: если был вокруг шум, так не было ярости. Если была ярость, так никогда не находила для себя точных наречий. Человек, человек, это всего лишь человек, с краеугольным ничтожеством его смысла и представлений; и как же не поражаться еще неимоверному своеобразию его бесчисленных стилистических ошибок?! Но все же только не требуйте от него невозможного, не ждите от него гордости, когда он распластался ниц, не ждите от него точности, когда он распугивает и обижает окрестных ангелов абсолютным и холодным блеском своих беспорядочных молитв, не ждите от него осторожности, когда он впал в ярость, когда, закусив удила от гнева, мчится навстречу собственной гибели, желанной и неотвратимой.
— Друг мой Ф., - с иезуитской любезностью начал Ш., шестым бесчувствием своим обнаружив в себе первые признаки подступающей скуки.
— Это, пожалуй, чересчур сильно сказано, чересчур сильно, — возразил его самодостаточный пассажир, справедливо гордившийся легированной сталью его обычных измышлений.
— Давно меж нами не звучало чего-то… нестерпимо богословского, — Ш. говорил. Ему, возможно, следовало бы подумать и о некой новой фонетике, о создании наиболее достоверных звуков для его непревзойденных сатир. Приятелю его Ф., впрочем, вовсе не импонировало быть сторожем его благоговейных глумлений. Он готов был затеять какую-либо собственную историю в противовес настойчивым россказням Ш.
— Я тебе не рассказывал, — лениво начинал он, — как я блевал под «Девятую симфонию» Бетховена?
— Да нет же, — возразил Ш., - я намереваюсь развернуть перед тобою картину, полную небесного совершенства.
Пальцы руки своей оторвав от колеса рулевого, с плебейской заскорузлостью жеста потеребил переносье, будто намереваясь чихнуть. С заправской решимостью держал он паузу, с кичливостью непревзойденного питомца подмостков. Из них двоих был он лидер в сарказмах, Ф. же превосходил того в номинациях незамысловатости и настырности.
— И вот мы видим нечто осиянное, — говорил Ш. — Декорации, по правде говоря, темны.
— Светлы, — возразил Ф., на лету подхвативший сомнительную метафору.
— И некто прохаживается посреди ангелов… — Ш. говорил.
— С бородой.
— Это необязательно.
— Но лик Его светел.
— Пусть так, — согласился покладистый Ш. — И вот посреди дней Его беззаботных бывает охвачен Тот неким томленьем. А теперь скажи мне, Ф.: мастурбирует ли наш герой, или предается блуду с двуполыми ангелами?
— Он сексуальный сомнамбула, и все прозябание мира имеет причиной единственно акты его пьянящего блуждания, — с кривоватой усмешкой лица его небритого Ф. говорил.
— Ты хоть обдумал это своим гипоталамусом? — неожиданно вскинулся Ш., вполне в духе его обычного словесного отщепенчества. Иногда с полуслова пробуждалось к жизни их обоюдное отвращение; но им все же удавалось порою вести их великие диалоги.
— Мы всего только бильярдные шары, — отвечал Ф., - не более, чем бильярдные шары в играх своеволия.
— А бильярд в половине какого? — с натужным любопытством осведомился Ш.
— Эта игра вне времени, хотя и в пределах пространственной определенности, — Ф. говорил.
— Погоди-ка, — вдруг отозвался Ш. с внезапным напряжением его холодного голоса. Он быстро стал выворачивать руль, дал задний ход и развернулся едва ли не на месте. Ф. с сожалением рассматривал серые корпуса крематория, до которых было уже рукой подать. Эта дорога не вела к центру города, но и сейчас, развернувшись, Ш. не стал от того уезжать.
— Ты что это? — спросил Ф., на мгновение очнувшийся от случайного сожаления своего.
— Забыл, что ли? — отозвался Ш. — Там же дальше блокпост. Хочешь, чтобы нам кишки выпустили?
— Так значит тебя нам следует благодарить за наше спасение? — с глухою, невоздержанной иронией своей Ф. говорил. С аммиачной своею усмешкой Ф. говорил. Иногда и тот, и другой готовы были действовать вопреки доктринам их избранного существования.
Ш. промолчал. Автомобиль его свернул на территорию заброшенной стройки и неторопливо тащился по мерзлой дороге, усеянной битым кирпичом. Ф. прекратил оглядываться, вполне равнодушный к пройденному или проеханному, равно как и к тому, до чего им еще предстояло дойти или доехать.
— Там теперь сжигают только по субботам, — будто выдохнул Ш. гнетущее свое рассуждение. И он был уж почти рад перемене темы их оцепенелого, заскорузлого разговора. Подобно Демокриту, погубил он достояние отцов, но даже и не думал сожалеть о том в природной своей беззастенчивости.
— А в другие дни? — живо спрашивал Ф. с намеренным блеском его любопытства. Спрашивал Ф.
— Разве ты не слышал? — удивился Ш. — Там же Комитет по культуре находится, — Ш. говорил.
По левую руку от них возвышался ржавый башенный кран, с крюком на тросах, слабо раскачивающимся на мимолетном ветру. Недостроенный дом с зазубренными кирпичными краями казался вросшим в почву, и повсюду, вокруг его цоколя, топорщилась сухая полынь вперемешку с осотом. Ш. с особенным мастерством выбирал всегда самые сомнительные закоулки, когда нужно было избежать неприятностей или просто сократить путь. Вопреки Шатобриану был он машиной для деланья жизни, хотя машиной не слишком искусной и, возможно, даже с неполадками в ее причудливом механизме.
Они объехали дом, и за ним оказался еще один выезд с площадки, грунтовая дорога шла здесь вокруг кладбища, по ней-то и решился следовать Ш. Автомобиль нырнул под жидковатую пелену утреннего тумана; через редкие прутья старой ограды Ф. рассматривал замшелые стелы из разнообразных гранитов и диабаза, и губы его постепенно сводило в гримасе сосредоточенности. На голых сучьях деревьев черными грушами громоздилось воронье, застывшее, неподвижное и остекленелое. Нестерпимо тянуло гарью, и водитель, и его пассажир при закрытых дверях и поднятых стеклах ощущали этот тягостный воздух. Здесь бывало небезопасно, в этих окраинных районах, и при первой возможности Ш. всегда старался поскорее отсюда унести ноги или колеса. В минуту опасности он мог легко притвориться сиротой или, например, отщепенцем, в соответствии с модусом его внезапного вдохновения. Хотя опыт сарказма и пренебрежения всегда помогал ему вполне превзойти давным-давно им полученное трагическое образование.