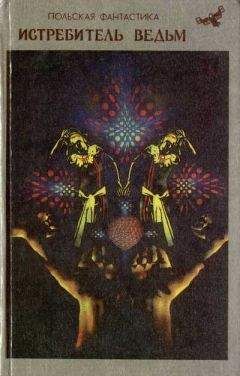Они объехали дом, и за ним оказался еще один выезд с площадки, грунтовая дорога шла здесь вокруг кладбища, по ней-то и решился следовать Ш. Автомобиль нырнул под жидковатую пелену утреннего тумана; через редкие прутья старой ограды Ф. рассматривал замшелые стелы из разнообразных гранитов и диабаза, и губы его постепенно сводило в гримасе сосредоточенности. На голых сучьях деревьев черными грушами громоздилось воронье, застывшее, неподвижное и остекленелое. Нестерпимо тянуло гарью, и водитель, и его пассажир при закрытых дверях и поднятых стеклах ощущали этот тягостный воздух. Здесь бывало небезопасно, в этих окраинных районах, и при первой возможности Ш. всегда старался поскорее отсюда унести ноги или колеса. В минуту опасности он мог легко притвориться сиротой или, например, отщепенцем, в соответствии с модусом его внезапного вдохновения. Хотя опыт сарказма и пренебрежения всегда помогал ему вполне превзойти давным-давно им полученное трагическое образование.
Фургон слегка встряхнуло, и коротышка, сбоку сидящий на железной скамье, ударился затылком о стену. Свет только едва пробивался через мутное мизерное оконце над кабиною, но глаза человека теперь уже почти привыкли обходиться без света.
— Да-а, — протянул коротышка, ногой поправляя пленку, закрывавшую труп. — Вот лежишь ты тут, а я пред тобою сижу. Но ты мне не завидуй. И я тебе не завидую. Каждому свое, как говорится.
Он помолчал.
— Жил ты, жил… Молодой был!.. Пацан совсем… Для чего жил? для чего родился? для чего мать тебя родила? для чего папаша твой?.. хотя папаша-то понятно, о себе думал… Ну а ты-то!.. Скажешь, тебя не спрашивали?.. Нет, врешь! Хоть и не спрашивали!.. Сопротивляться надо было. Упираться!.. Нет, и все!.. И отстаньте! Глядишь, и выкидышем бы вышел. Вытряхнулся бы на камни или в лопухи. А так… Где были твои молитвы? где были твоя брань и гротески? Где были твои отвращения? Скажешь, были? Мало!.. Мало было отвращений. Отвращений много не бывает. И потом, не так уж мало ты прожил. Главное — не сколько, главное — как!.. А ты!.. Тьфу!.. Надо было тренироваться, надо было развивать свои фобогенные зоны. Ну и что — развивал? Где твои фобогенные зоны? Где? Нету? Вот в том-то и дело. Сам не знал, как жить, спросил бы у кого-нибудь… Спросил бы у Казимира. Казимир бы тебе ответил, как жить. И вообще: зачем было из окна прыгать? А? Сам не знаешь? Может, ты летать любишь? А Бог тебе крыльев не дал? Ну вот, станем мы теперь все на Бога сваливать. Нехорошо это, некрасиво, знаешь ли.
Фургон еще раз встряхнуло, хотя ехал тот медленно, коротышка повалился на скамью, но тут же выпрямился горделиво.
— Вы там поосторожнее! — недовольно говорил он. — Небось, не говно везете.
Он вновь помолчал.
— Ну хорошо, вот ты жил, и — что? ты можешь философски осмыслить каждую минуту твоего бытия? Нет? Так я и думал!.. Сказал бы что противоположное — так не поверил бы. На смех бы поднял. Жизнь прежде смысла и вместо смысла, скажешь ты? Нет, это меня не убеждает. Я готов проделать за тебя непосильную твою работу, но, по здравому рассуждению, я заключаю, что и мои усилия оказались бы тщетны. Ты бессмыслен, как камень, как трава, как песок, как ветер, так что ж на тебя изводить труды моей рефлексии?!
Коротышка вдруг пропел своим отчетливым голосом развернутое трезвучие мажорное на слог «ба», и, кажется, остался доволен собой.
— Мне сегодня надо хорошо звучать, — пояснил он своему неподвижному собеседнику. — Ты-то лежишь тут, а мне еще работать. Может, моя задача — второе пришествие, а я его заведующий, откуда ты знаешь? Одного им мало было!.. Козлы!.. — неопределенно погрозил он кулаком кому-то. — Да и что ты понять можешь? Ничего, скоро приедем уже.
Новая пауза коротышки была весомее прежних, казалось, как будто он даже задремал, но ничуть того не бывало, он был трезв, бодр и здравомыслящ, вот он наконец вздохнул от какой-то новой мысли своей, или от безнадежности и снова стал говорить.
— Ты думаешь, что смерть — дезертирство? ты думаешь, ты куда-то сбежал? Нет, нет, и еще раз нет. Это жизнь — дезертирство. Мы все — дезертиры. Дезертиры от вечного предназначения. Так, правильно. Вот я скоро стану говорить — работа у меня такая — а ты, давай, слушай. Я буду громко говорить. Ты-то хоть слышишь? — встревожился вдруг коротышка. — А то лежишь тут, как чурбан безмозглый, и никакого спросу с тебя нет. Где душа твоя, а? Здесь или в эмпиреях? А? Где твоя душа, парень? Скажи-ка? Молчишь? Молчишь, сволочь? Где смысл твой? Тоже нет? Да нет, что это я? — спохватился вдруг человечек. — Ты молодой — а значит и смысла у тебя никакого нет и не было. Смысл — такое дело, его еще заслужить надо. А чем заслужить, черт его знает, и я тебе не скажу. Хотя сам-то я заслуженный работник смысла, но все равно не скажу. Собственно, чего я на тебя время трачу? — спросил человечек, сплюнув на грязную пленку перед собой. — Не стану я на тебя время тратить, очень мне надо!.. — говорил еще он.
И снова сплюнул.
— Так-то!..
Фургон вдруг хрюкнул своим изношенным мотором и остановился. Коротышка встал, едва не задевая головою невысокий потолок.
— Ну вот, — говорил он, — должно быть приехали куда-то.
Говорил он. И был прав. А вот только куда они приехали — кто бы мог сказать это уверенно? Никто бы не мог сказать это уверенно.
Когда дверь открыли, Неглин сразу проснулся, и сердце его сжалось в случайном волнении. Он догадался, что пришел Кузьма, и с ним еще кто-то. Он решил не вставать; Кузьма сообразит, что он здесь, и, если Неглин ему понадобится, Кузьма сам его позовет.
— Ну-ка, вот сюда сел! Ну! — холодно говорил Кузьма своему собеседнику. — Руки давай!
Неглин слышал, как Кузьма усадил кого-то на стул, елозили ножки стула по паркету, потом лязгнул замок, Неглин подумал, что это, должно быть, были наручники, он послушал еще минуту звуки, доносившиеся из-за перегородки, и потом снова закрыл глаза, надеясь заснуть.
— Ну что, Романчук, — говорил Кузьма, — пока ты теплый, давай сам рассказывай. Слышишь, что сказал?!
— Что рассказывать? — отвечал Романчук своим южным носовым говором.
— Опять по харе хочешь? — возражал Кузьма со своей нержавеющей злостью.
— За что, лейтенант? — с хамоватой округлостью загнусавил голос.
— Я тебе, сука, не лейтенант, — гаркнул вдруг длинноволосый собеседник Романчука на повышенной ноте их напряженного разговора. — Если колоться не будешь, я тебе сейчас всю морду расстаканю.
— Ну все, все, — стал успокаивать Кузьму Романчук.
Тут же послышался шлепок, и сердце Неглина заколотилось.