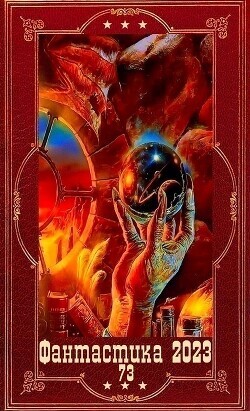Михаила толкнули в спину, почти сбили с ног паникующие люди. Сороки рвали глаза, выцарапывали, вырезали из лиц, хватали клювами, как спелые ягоды. С криками устремлялись прочь, относили добычу и возвращались, продолжая охоту.
Глаза. Их разноцветье манило тварей, как пламя — мотыльков. С той разницей, что Сороки позже выпестывали из глаз яйца, оборачивая тягу себе на пользу.
— Миша! — Лин прорвался к Плотникову, встал рядом.
Актисы его блестели, умытые Сорочьей кровью. Экипаж старался держать организованную оборону, но обреченное ужасом человеческое стадо не давало себя защитить.
Михаил уклонился, отбиваясь от когтей коротким ножом. Левую руку обмотал плотной кожаной курткой, уже покрытой глубокими порезами. Не привычное к бою оружие тем не менее позволяло контратаковать и защищаться. Сорока била с клекотом, голое тело ее, покрытое алебастровым пером, было, казалось, непроницаемо для короткого плотницкого ножа.
У ног Михаила сбились люди, кто раненый, кто уцелевший. Иванов понимал, что всех не сберечь. Сам он мог легко спастись — достаточно было присесть, спрятать глаза в горсти. Но сделать того не мог — совесть не позволила бы.
Лин вдруг опять вырос перед ним, толкнул себе за спину, притер к арфе. Шагнул вперед, разводя руки с актисами. Пространство перед ним расчистилось, точно он собирался взойти на сцену. Сверху упала Сорока. За ней другая. Третья.
Первый безупречно владел оружием — Сороки, подлетавшие близко, улететь уже не могли, падали, срубленные лезвиями. Плотников сжал кулаки так, что побелели костяшки.
— Парень! Держи, парень! — мужчина в одежде торговца Хома Оливы толкнул ему в ладонь липкую рукоять револьвера.
Сам он стрелять уже не мог — глаза его стали добычей Сорок.
Михаил молча сжал добровольно отданное оружие. Послушное — по закону Статута. Прокрутил барабан, слушая, на сколько его еще хватит. Выходило не жирно.
Плотников был не из тех, кто бьет белке в глаз — он и белок-то не бил, предпочитая животной охоте рыбную ловлю и грибной сбор. Выбирать, однако, не приходилось. Михаил вскинул револьвер, четко развернулся и снял первую из Сорок. Метил в голову — от тела могло и срикошетить.
Лин мельком глянул на него, увернулся от выпада противницы, позволяя твари скользнуть вперед и одним махом актиса снес Сороке клюв.
От дикого птичьего крика Михаил едва не оглох. Сорока, будто ослепнув, заметалась по палубе, натыкаясь на людей и товарок, кулем повалилась за борт.
Михаил снял еще двух. На четвертой обидно промазал, а пятая пуля была последней.
Лин сцепился с Сорокой, не давая ей приблизиться к сбившимся в кучу людям. Оттеснил к борту, прижал, пропустил удар в голову, Сорока закричала торжествующе и — будто захлебнулась.
Что-то стремительное, серебристым росчерком, схватило ее, опутало лесой голову и грудь, мощным рывком сволокло в Лут. А следом серебряный дождь обрушился на тэшку, выхватывая Сорок.
Михаил, оказавшийся рядом с Лином, видел, как живое серебро, цепляя Сорок, тянет их вниз, в Лут, в открытый ротовой диск цветущей белым Сагартии.
Не успел Плотников сосчитать до тридцати, как Сороки закончились. Самые умные сбежали, те, кто замешкался, стали добычей другого хищника.
Сагартия, насытившись и потеряв интерес к тэшке, собрала ловчие лесы-вольвенты и опустилась обратно в Лут. Михаил проводил взглядом ее колыхающийся, как плюмаж, венчик. Глубинный охотник Лута, Сагартия, всегда жила на дрейфующих останках корабелл, и никогда не поднималась так высоко.
— Что это было? — кто-то из экипажа дико глядел на него уцелевшим глазом.
— Сагартия, — выдохнул Михаил. — И нам повезло, что ее накормили Сороки.
***
Хом Имта встречал тэшку суетой, лекарями и гвардейцами. Плотников, не желая увязнуть в расспросах, схватил Лина и был таков. Благо людям было чем заняться и без них.
Сначала они с Лином шли быстро и молча, удаляясь от дороги в город, пока воронка окончательно не скрылась из вида. Только здесь Михаил позволил себе немного сбавить темп. Выдохнул.
Остановился и поймал за плечо Лина. Тот растерянно уставился, облизал высохшие губы. Налегали сумерки. От травы и деревьев тянулся туман, волглый, как сырое белье. На небе висела луна со сколом.
Михаил дернул плечами, прогоняя воспоминания.
— Лин. Давай условимся. Впредь не смей загораживать меня. Я не девушка, не старик и не ребенок. Я взрослый мужчина, вдвое старше тебя. Я воин.
Лин вскинулся, глаза его горячо блеснули.
Михаил поднял руку.
— И меня оскорбляет сама мысль о том, что я буду прятаться за спиной мальчика, — отчеканил он.
— Я Первый! Я из Луча Палачей! Мой долг — защищать людей! Это то, что я умею делать и буду делать!
— А я Михаил Плотников, из Ивановых, и я никогда не прятался за спинами детей! — рявкнул Михаил так, что смолкли вечерние птицы.
У Лина обозначились желваки.
Михаил медленно выдохнул и уже спокойно попросил:
— Если не хочешь меня обидеть, не делай так больше.
Лин сузил глаза, но промолчал, тяжело дыша.
— Нил не возражал, когда я его защищал, — буркнул в сторону, ковыряя носком лесной опад. — Я сильнее тебя.
Михаил закатил глаза. Вспышка гнева уже прошла, а злиться долго на Лина он все равно не смог бы. Первый явно не имел намерение его обидеть.
— Я не он. И я буду рад сражаться с тобой плечом к плечу. Но не за твоей спиной. Мы договорились? — он наклонился, вглядываясь в лицо Лину.
Первый шумно выдохнул, как раздосадованный ребенок.
— Хорошо, — сказал.
Михаил протянул руку, и Лин осторожно пожал его ладонь.
— Долго нам идти? — спросил Первый.
— Нет.
Лин слабо улыбнулся. Михаил почувствовал его улыбку — в сумерки словно молока плеснули.
— Та Сорока была права.
— В чем же?
— У тебя красивые глаза.
…Михаил привел их к старой балке. Стемнело окончательно, но Михаил достал припасенный фонарь. Потрепанный жизнью, однако вполне боеспособный. За толстым стеклом плескался формалин, а в нем плавал под корень вырванный роговой светец крадуна. Когда-то это существо наводило страх на жителей деревни, скрадывая по ночам детей. Очаровываясь светом, мальки шли прямо хищнику в зубы.
Случайный путник, Михаил, не мог остаться в стороне. А после и вовсе задержался: сперва на правах героя-избавителя, потом — уже своего, местного… Из оврага тянуло колодезным холодом, пахло прелым листом и напитанной дождем землей.
— Ты оставил его здесь? — Лин взволнованно дышал за спиной Михаила, спускаясь за ним след в след. — Не боялся, что люди найдут?
— Сюда люди не ходят, — успокоил Михаил, слушая, как звуки голоса вязнут в овраге, будто в пуховой подушке, — они зовут это место Змейным Котлом. Якобы гады здесь так и кишат.
— Так кишат?
— По весне. Нынче спят уже. Но все равно под ноги смотри, гадюкам безразлично, кого за задницу хватать — что Первого, что человека.
Лин, судя по сопению, принял его слова к сведению.
Сам Плотников начал волноваться. Оружие он сбрасывал в некоторой ажитации, малиново-адреналиновом чаду. Место помнил — засело в памяти крепко, гвоздодером не вырвать. Михаил не чаял вернуться однажды. Тем более не думал, что приведет за собой Первого.
Дно оврага было затерто толстым слоем листа и веток, сором, что нанесли вешние воды. Михаил глядел в оба. Зверья крупнее лисиц здесь вроде не водилось, но кто знает…
Лин вдруг подпрыгнул, как кот, живо цапнул что-то из кучи листьев.
— Змея! Смотри, Миша, настоящая змея! Черная, красивая, гладкая такая! — восторженно потряс схваченной под самое горло гадюкой перед носом Плотникова.
Гадина извивалась и шипела.
— Фу! Брось! Брось подальше!
— А…
— Нельзя!
Лин послушался, закинул гадюку куда-то в сторону.
Михаил подержался за сердце, протяжно вздохнул.
— Как я рад, что мы почти пришли, — сказал негромко. — Значит, будь рядом и никого больше не хватай. Слушай меня. Лес этот непростой. Биодинамический. Теперь, как видишь, стареет, в землю уходит. Как весь втянется, останется на поверхности одна щетина-стернь. Сам лес будет лежать в глубине, зреть. Как созреет, выйдет обратно уже другим — горой вырастет, рекой выльется, не знаю.