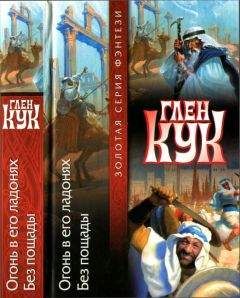По спине словно сухим горохом щелкали, прямо в ухо отдавался грохот выстрелов, и стало больно: как-то обидно больно, ведь никому ничего плохого я никогда не делал, и вот на тебе, каждая зараза стремится всадить в меня пулю.
Кто-то упал совсем рядом. Прилетел с крыши, глухо шмякнулся в пыль и задергался быстро и мелко. На черной гладкой форме сидел мерзкий мясной цветочек с глубокой жидкой сердцевиной.
Наверное, у меня потекли слезы. По крайней мере, когда меня отцепили от Сантаны, он посмотрел на меня странно. И я помню, что утирался рукавом.
Больно стало нестерпимо. Все они могли бы дрессировать крыс и покупать рыбок, рисовать ежиков или высаживать в каменную землю капусту, но вместо этого: сплошные трупы.
Ненавижу эту неподвижность. Она особая. Человек в глубоком сне тоже не шевелится, но его неподвижность временная, это видно по плечам, спине, пальцам… Труп застывает так, что становится ясно, – это безвозвратно, это конец.
Страшно. Капитан Белка говорил, что это страшно.
Если бы мне дали возможность заняться дизайном флага Добра и Справедливости, я бы изобразил на черном фоне простреленную башку и крупную надпись: «ДОБРО».
Может, кто-нибудь и задумался бы.
Кто-то дернул меня за руки, ловко завернул их за спину, прямо под короб, и защелкнул запястья холодными легкими наручниками.
Сантана рядом подвергся той же процедуре, но при этом бубнил, чтобы не смели забыть его рюкзак с инструментами, и бубнил так мрачно и убедительно, что один из синдромеров поднял рюкзак и нерешительно его осмотрел.
– Да, этот, – обрадовался Сантана и получил прикладом в висок.
Ко мне тоже примеривались.
– Я сам пойду, – сказал я.
И пошел по улицам города-корабля, за спиной женщины со скорбным лицом, которая не хотела повернуться и посмотреть, что же такое творится на вверенной ей территории.
Убитого Сантаной бросили лежать на земле. К нему никто не подошел и не сказал последнее: «Прощай, Сэмми, ты был хорошим другом». Или «Чарли, ну почему именно ты?».
Я споткнулся. Через забрало шлема на меня взглянули очень сумрачные и недовольные глаза. Охранника мне поставили самого мелкого, безопасного и невзрачного. Неужели я настолько плох?
Далеко идти не пришлось. Меня завели в ближайший подъезд с ободранной дверью и надписью: «Опорный пункт…», Сантану дернули и потащили по лестнице вверх, а я остался на первом этаже, в комнатке с оплывшими красотками на старых глянцевых плакатах.
Синдромер в черном стоял ко мне боком и был он с этого ракурса толщиной с сосновую доску. Шлем сидел на нем неровно, но руки уверенно держали оружие, и у пояса болтались ножны с коротким клинком.
– Кто? Зачем? – спросил он, поворачивая ко мне похожую на тюленью, блестящую голову в черном шлеме.
Я сидел на низенькой металлической скамейке, передо мной стоял ободранный стол. Синдромеры стали цивилизованнее. Теперь они пытаются вести допросы. Прежде бы отрезали мне башку – и дело с концом…
– Слушайте, – сказал я, – я понимаю: во времена демократических свободных государств были места, куда ходить нельзя, и были места, куда ходить можно, но сейчас же все это рассыпалось, никакой свободы… так что я просто шел с другом. Гулял.
Охранник посмотрел утомленно. Один его глаз был прикрыт чудовищными наростами, на месте второго – грязный пластырь.
Он вышел, хлопнув тонкой дверью. С притолоки посыпалась штукатурка, и плюхнулся вниз озадаченный паук.
Я посмотрел на плафон настольной лампы. Он был исписан фломастером. Санни дурак.
– Осторожно – паук, – сказал я, когда дверь снова распахнулась.
Синдромер посмотрел вниз, перешагнул притихшего паука и поставил на стол алюминиевый поднос.
Стакан воды и пучок вяленостей, скорее всего, крысиные бока или что-то в этом роде. Воду я выпил. Крыс отодвинул в сторону.
Поднос убрали. На стол легло потрепанное письмо. И снова меня передернуло – мой почерк. Словно я когда-то в забытьи написал приглашение на две персоны, я поставил подпись и пустую строчку, в которую можно внести имя второй персоны.
– Пиши.
– Что?
– Имя.
– Чье?
– Свое имя.
– Я пойду в Край?
– Да, – подтвердил охранник. – Ты пойдешь в Край со мной, доктором Сантаной.
Лампа содрогнулась. Крысиные бока застучали в стакане. Где-то совсем рядом прошла тяжелая техника.
– Можно мне поговорить с вашим лидером? – спросил я. – Край – не то место, куда можно просто так взять и завалиться с автоматом наперевес…
Синдромер оперся ладонями на стол, покачался взад-вперед, словно задумчивая цапля.
– Никто не должен знать лидера клана.
В висок мне уперлось дуло пистолета.
– Хорошо, – сдался я.
И написал в пустой строке, изо всех сил стараясь изменить почерк: Марк.
Выглядело так, будто строчка никогда и не была пустой.
– Марк – и все?
Дуло стало настойчивее.
«Марк Комерг».
Охранник посмотрел внимательно.
– Хотел навестить родственника? – спросил он с едва уловимым ехидством.
– Нет, – мрачно ответил я. – Никаких родственных связей. Никаких трагедий. Я его с детства терпеть не мог. Он смеялся, когда меня укусила лисица, а когда я застрял вниз головой в вентиляционной шахте, он сказал, что теперь кровь прильет к моей голове и я умру. Я рыдал в этой трубе часа два. Так что… а что с Сантаной?
– Никто не должен знать о судьбе пленных.
– Спасибо хоть на том, что позволили узнать о моей собственной…
Однажды я болтался на грани и готов был сломаться, но прошло целых два года, на протяжении которых я пил и шлялся по собраниям. Моя кровь остыла, чувства притупились. Я по-прежнему выносливый и сильный, я даже готов взвалить на себя «сайлента» и делиться с ним нервами, кровью и дыханием, такое мало кто способен вынести, а я могу. Передо мной всего лишь маленький охранник-синдромер, и ни одной причины оставить его в живых. Сломайся я сейчас – картинно выхватив из его рук пистолет и пристрелив одноглазого, я, может быть, вырвался бы на свободу и вызволил Сантану, оставив за собой гору трупов.
Но я точно знаю – человек не должен убивать и причинять боль.
Не должен, даже если не все об этом знают.
(Вы все равны.)
Синдромер свернул письмо, аккуратно спрятал его в нагрудный кармашек и так же аккуратно пристегнул меня наручниками к кушетке.
– Можешь спать, – разрешил он и вышел, оставив на столе слепящую лампу с отвратительным оранжевым плафоном.
От ее света я сполз под стол и посмотрел: скамейка привинчена к полу. Непростое это все-таки местечко. В подтверждение мысли в коридоре лязгнула увесистая решетка, загромыхали замки. Наверняка перекрыли этажи и выход…