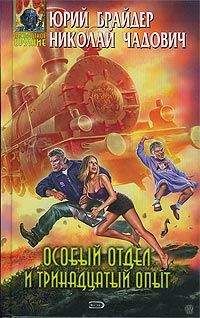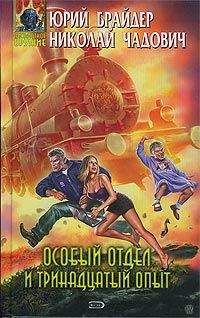Если верить поэтам и историкам, вековое проклятие лежало на обоих городах, но даже оно было совершенно разным.
На Москву каинову печать навлекло азиатское коварство, людоедское жестокосердие и патологическое властолюбие собственных правителей, а на Петербург промозглым, чахоточным туманом легли превратно понятые и до неузнаваемости исковерканные чужеземные идеи о примате личности над обществом, у нас, как всегда, обернувшиеся своей противоположностью.
Впрочем, далеко не всё здесь было благополучно, далеко не всё…
И хотя в центральных районах половина зданий стояла в строительных лесах, затянутых зелёной предохранительной сеткой, похожей издали на марлю, предназначенную для ран великана, беспристрастный взгляд постоянно натыкался на отвалившуюся штукатурку фасадов, ржавое железо крыш, загаженные подъезды, раздолбанные мостовые.
Куда ни повернись, работы было непочатый край. И неудивительно! Если при Петре Первом любое каменное строительство разрешалось исключительно в новой столице, то при серпасто-молоткастой власти все ресурсы Госстроя уходили на возвеличивание Белокаменной. А ведь городское хозяйство, грубо говоря, имеет сходство с венерической болезнью – коль однажды запустишь, потом горя не оберёшься.
Тем не менее широко распространённое суждение о том, что шрамы, увечья и морщины украшают героя, соответствовало облику Петербурга как нельзя лучше.
Что касается злопыхательских наветов на матушку-Москву, тут двух мнений быть не может: аналогия с потаскухой, которую не красят ни румяна, ни белила, абсолютно беспочвенна и притянута за уши.
Как выяснилось, монголоподобный сержант Володя накануне получил отгул, полагавшийся ему ещё со времён празднования трёхсотлетия города на Неве, и укатил отдыхать в карельские леса. Однако на службе находился его постоянный напарник, тоже сержант, звавшийся Семёном, который прекрасно помнил инцидент, случившийся несколько дней назад при отправлении московского поезда.
– Публика эта прямо из кабака сюда явилась, – пояснил он. – Провожали молодожёнов в свадебное путешествие. Все пьяные в дугу. Того и гляди, на рельсы свалятся. Добрых слов не понимают. Пришлось пригрозить, что вызовем экипаж медвытрезвителя. Еле угомонились. А люди сами по себе приличные. Назавтра приезжали извиняться.
– Наверное, с подарками? – добродушно поинтересовался Кондаков.
– Как водится. – Таиться перед чужим, обременённым собственными заботами подполковником не имело никакого смысла.
– Ты не в курсе, кто из провожающих фотографировал на перроне? – мягко, можно даже сказать по-дружески, осведомился Кондаков (особо заноситься было нельзя: затаённая рознь между милицейскими подразделениями разного территориального подчинения существовала, наверное, ещё с тех времён, когда предки нынешних сержантов, лейтенантов и майоров служили в дружинах, скажем, Серпуховского княжества и Новгородской земли).
– Как фотографировали, видел, но вот кто, не знаю, – ответил Семён. – Вы у папаши жениха поинтересуйтесь. Мы его адресок на всякий случай из паспорта переписали. Жаль, что телефончика нет. Он, бедолага, его просто выговорить не мог. Пару раз начинал, но дальше третьей цифры так и не продвинулся. Умора…
– Свадьба, ничего не поделаешь. В чужие обстоятельства тоже надо входить, – наставительным тоном произнёс Кондаков, переписывая искомый адрес из служебной книжки сержанта. – Когда своего наследника будешь женить, тоже небось загуляешь.
– Его сначала сделать надо, – осклабился сержант.
– Есть какие-то проблемы? – Кондаков непроизвольно потянулся к собственному паху.
– Не в этом смысле, – поспешно заверил его сержант. – Проблемы скорее морального плана. Когда весь день имеешь дело с воровками, проститутками, аферистками и наркоманками, поневоле теряешь симпатию к женскому полу. Думаешь про себя: а вдруг они все такие?
– Переводись в отдел милиции, обслуживающий аэропорт, – посоветовал Кондаков. – Будешь общаться со стюардессами, лётчицами и дельтапланеристками. Сразу воспрянешь духом.
– Думаете, они лучше? – с горечью произнёс сержант-женоненавистник. – Обличье другое, а суть одна.
– Подожди, подожди. – Кондаков заприметил какую-то фотографию, вложенную в служебную книжку Семёна. – А это что такое?
– Фоторобот неизвестного гражданина, предположительно причастного к террористическим актам, – пояснил Семён. – Может появиться на нашем вокзале.
– Когда поступила ориентировка?
– Сегодня утром.
– Дай-ка посмотреть. – Кондаков уже овладел весьма примитивно сделанным портретом, изображавшим человека, лицо которого было наполовину скрыто вязаной шапочкой-менингиткой и тёмными очками. – Ты раньше этого фрукта не встречал?
– Разве по этой картинке можно кого-нибудь опознать? Я сам, когда от службы свободен, примерно так же выгляжу.
– Да, достоверность фоторобота вызывает сомнения, – согласился Кондаков. – Хотя внешность, похоже, славянская. Как ты думаешь?
– Славянская, – произнёс Семён с неопределённой интонацией. – А может, и чухонская.
– Ты не возражаешь, если я этот портретик заберу?
– Берите, – махнул рукой Семён. – В дежурке такого добра целая кипа.
– Спасибо тебе, – на прощание Кондаков протянул сержанту руку. – А на женский пол ты зря наговариваешь. Порядочная девушка на вокзале околачиваться не будет. Почаще посещай библиотеки, театры, музеи. Там и встретишь свою суженую.
Давая столь ценный совет, Кондаков, конечно же, умолчал о том, что его первая жена оказалась алкоголичкой, вторая блудницей, а третья всем на свете публичным местам предпочитала рынки и комиссионки.
* * *
Папаша жениха, со скандалом укатившего в Москву, носил довольно редкую фамилию Кашляев. Имея на руках ещё и адрес, не составляло никакого труда узнать его телефон. Для этого даже не пришлось прибегать к услугам справочного бюро. Достаточно было и обыкновенного компьютера, установленного в дежурной части линейного отдела милиции.
С этим чудом современной техники, до середины восьмидесятых годов официально именовавшимся «электронно-вычислительной машиной» и вернувшим своё исконное англоязычное имечко лишь с приходом перестройки, Кондаков познакомился уже в том возрасте, когда человека учить – только портить.
По личному мнению Кондакова, которое он, правда, скрывал от начальства, без компьютеров можно было преспокойно обойтись уже хотя бы потому, что раньше ведь обходились – и ничего, дела делались. К рутинёрству, присущему почти любому человеку предпенсионного возраста, у Кондакова добавлялась ещё и подсознательная неприязнь, обусловленная слышанным в далёком детстве категорическим утверждением: «Кибернетика – продажная девка империализма».