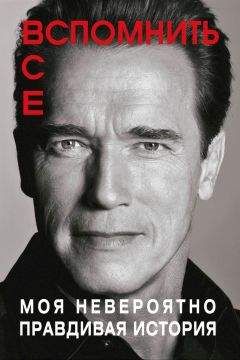– Дорогой Вячеслав Борисович, – проникновенно сказал Романов. – Если вам дали велосипед, одно колесо которого крутится перпендикулярно другому, вы ведь не станете восхищаться самобытностью этого велосипеда, оригинальным новаторским замыслом… роскошной отделкой, наконец? Вы его разберете и будете переделывать.
– Но дети все-таки не велосипеды.
– Именно. Безнадежный велосипед можно выкинуть, наконец. А детей осталось слишком мало, чтобы ими так разбрасываться. Странно, что я это объясняю вам!
– Справедливости ради – есть немало мальчишек, которые…
– Есть. Но о них речь не идет. У них будут другие кураторы, хоть и подчиняющиеся вам, другие проблемы, и к вам конкретно они начнут проситься на отдых… уверяю.
– Вы хотите, чтобы я создал и внедрил новую систему воспитания и образования? – теперь Жарко говорил четко и резко.
– Да, – так же, в тон ему, отчеканил Романов.
– Предельно тоталитарную, жесткую и эффективную?
– Да.
– Учитывающую не права, желания и свободы, а только пользу для общества и самого ребенка, причем пользу пролонгированную…
– По-русски, пожалуйста, Вячеслав Борисович. Я не знаю этого слова.
– На отдаленное будущее.
– Да.
– И внедрял ее повсеместно, не считаясь ни с чем?
– Да.
– И кроме того – чтобы я занялся отдельно государственным воспитанием части сирот, которые покажутся мне подходящими на роль бойцов и лидеров?
– Да.
Жарко наконец отвел взгляд. Усмехнулся:
– И что… нет никаких ограничений в моей работе?
– Никаких. Даже если вы кого-то убьете или доведете до смерти – разрешается. Впрочем… – Романов провел по лицу ладонью, помассировал щеки. – Одно ограничение все-таки есть. Вам ведь известна – известна на уровне инстинкта, я за вами следил с самого начала нашей эпопеи, с первой встречи, – разница между жестокостью и издевательством, между принуждением к подчинению и унижением, между «правами» и душевным достоинством? – Жарко кивнул, глаза его стали чуть удивленными, он явно не ожидал от Романова таких разговоров. – Не унижайте их. Не издевайтесь над ними. Не топчите их достоинство. Это всегда, понимаете, всегда остается в душе как гноящаяся рана. И рана эта никогда не заживает. А гнойники в душе нам не нужны. Ну, я целиком и полностью полагаюсь на вас и ваше чутье.
На лице Жарко отразился вдруг испуг. Настоящий. Он наклонил голову и, исподлобья разглядывая Романова, тихо спросил, называя его на «ты»:
– Ты хоть понимаешь, какую власть я получу таким образом?
– А что? Свергнешь всех остальных? – спокойно спросил Романов, тоже перейдя на «ты».
– Нет… Просто боюсь не справиться. Хотя честно признаюсь: о том, что ты сейчас говоришь, я мечтал. Мечтал много лет. Все, на что я сейчас возражал, я держал в уме постоянно… и сейчас с трудом верю, что мне выпал шанс… и боюсь его…
– Послушай, а я просто летеха-морпех, который… – Романов ожесточенно плюнул в урну для бумаг. Жарко кивнул:
– Понял.
И, прежде чем выйти, коротко отсалютовал.
* * *
Женька появился в Думе в неурочный час. Если честно, Романов часто забывал про своего «спасеныша». Просто не хватало времени думать о нем. В конце концов, Белосельский был в безопасности, он был сыт, одет, обут, жил в тепле – чего нельзя было сказать о множестве других детей.
Женька, похоже, все понимал и не обижался. Он просто появлялся в штабе в обед и приносил Романову поесть. Готовить Женька не умел, но, похоже, старательно учился – у него получалось с каждым разом все лучше. Чем он занимается в остальное время, Романов, к собственному стыду, не знал вообще.
Однако на этот раз Женька пришел почти с утра. Пропихнулся вне очереди в кабинет, мычаще огрызнулся в коридор на кого-то и в ответ на вопросительный и недовольный взгляд Романова достал свой верный блокнот. Присел к столу, начал писать. Романов с интересом рассматривал его – коротко стриженного, в плотной кожаной куртке, армейских штанах-«песчанке» с большими карманами и прочных, неказистых рабочих ботинках. «ТТ» у мальчишки, видимо, был под курткой, но из-под ее короткой полы виднелся нижний край чехла для висящего на поясе рабочего инструмента – дорогой надежной «лазерманы», которую мальчишка, судя по всему, сам где-то… нашел. Неожиданно подумалось, что в магазинах до сих пор лежат кучи модного барахла – и на взрослого, и на подростка, и детского. И его никто не берет, только потихоньку команды вывозят «на ткань». Эта одежда, как и мода, которой еще недавно, например, придерживались ровесники Женьки (никто из них не обул бы таких ботинок еще в прошлом году, даже глядеть не стал бы), – она была искусственной. Нелепой. Не выдерживающей столкновения с малейшими трудностями жизни. Таким же был и мир, в котором их создавали и активно навязывали. Он тоже не выдержал.
И теперь за это платили люди. Романов вдруг задумался: интересно, сколько подростков, не успевших сориентироваться в изменениях мира, погибли из-за… штанов? Да-да, тех самых идиотских мешков, телепающихся по земле, поверх которых было «круто» показывать резинку трусов. И которые помешали их носителям быстро бежать, когда это было жизненно важно?
Мысль была страшной, если честно.
Женька между тем поставил точку, победно шмыгнул носом и решительно подвинул блокнот взрослому: «Есть ребята. В городе на акраинах и близко в при городах. И в деревнях близко еще. Семь разных мест. Знают много всякое про банды которые там и про другое разное важное. Хотят помоч».
Романов поднял глаза, постучал по блокноту пальцем:
– Ты им веришь?
Кивок. Решительный – видно было, что Женька много думал об этом.
– Ты их знаешь? Раньше знал?
Женька придвинул блокнот, написал:
«Нивсех. Мало кого. Восновном простые пацаны, я с такими нидружил. Вобще ранше фигня. Ранше все были другие. Им плохо. Или прячуца или как могут защищаюца. Они помогут а мы их защитим. Я им верю. Клянус».
– Почему они просто не придут сюда? – допытывался Романов.
Женька вздохнул, досадливо поморщился, что-то мукнул недовольно, губами изобразил явно нечто матерное, досадуя на свою немоту. Опять застрочил:
«Поразному. Кто уходить с дома не хочет из села, там еда есть а тут кто знает. Кто и нас боица и думает что если не просто так прити а за помощ то лучше. Я уже много раз с ними говорил. Они прападут а так и им и нам харашо. Я могу сразу завтра встречу сделать. Ждут они».
– Хорошо, – кивнул Романов. И только теперь спохватился: – Погоди! А ты что, в город ходишь?!
Женька ответил удивленным взглядом. Кивнул. Мелькнул карандашом: