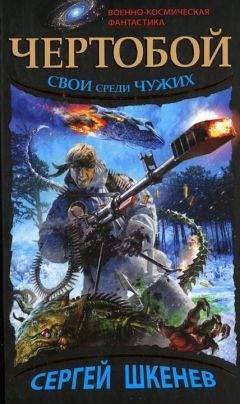— Ленка, дай стрельнуть! — А вот и они, легки на помине. Четыре мушкетера, четыре буйных ветра — будущее славного Саргайского рода.
Издалека показала братцам кукиш. Не подействовало, продолжали приставать:
— Тебе что, жалко, да? А волшебной саблей можно нашу березу за один раз срубить? А возьми нас с собой на рыбалку! А Никитка Малов говорит, что ты целоваться не умеешь!
Лена остановилась и бросила в Витьку, выдавшего самую страшную тайну, подобранную с земли сосновую шишку. Да, не умеет! И что? Не с самим же Никиткой, тайным воздыхателем, учиться? Тоже вот, жених нашелся, не только стрелять не умеет, но и оружие в руках никогда не держал — родители не разрешают. Они у него пацифисты. Папа, правда, иной раз их педерастами называет, на что мама ругается, а Андрей смеется и соглашается. Наверное, так оно и есть, отец и старший брат никогда не ошибаются. Не готов защищать — значит, не мужчина.
Пацаны отстали, наверняка что-то задумали. Судя по хитрым физиономиям и взглядам, бросаемым на подаренную в день рождения шашку, сейчас проберутся в кузницу делать себе очередной меч-кладенец. Она не вмешивается — отец как-то объяснил, посмеиваясь в усы, что не запрещает, но и открыто разрешать не будет. Иначе пропадет ореол таинственности и волшебства.
Ну и пусть занимаются и тренируются. Всяко лучше, чем весенняя попытка отправиться на охоту за тваренышами с самодельными луками и кривыми стрелами. А у нее есть своя тайна, живая и от этого жуткая. И ей уже два дня. Не связан ли с ней горький запах беды? Наверное, нет, от тайны пахнет любопытством, интересом и, как это ни странно, доброжелательностью.
На воротах от старшего из стражей — болотная тина с добавлением гнилой капусты. Залепить бы все восемь картечин в ощупывающие глазки. Папа говорил: «Видишь агрессию — стреляй первой. Выживший всегда прав. Или в большинстве случаев». Но вот так просто выстрелить в живого человека? Только за мысли? Люди все-таки…
Словно что-то почувствовав, охранник побледнел и отшатнулся. А может, так оно и есть.
— Доброе утро, Леночка! — Едва уловимая прелая листва. Боится?
— Для меня — доброе. Откроете?
— Конечно. На охоту?
Издевается? Обожгла взглядом и вышла за ворота. И уже не услышала за спиной сдавленный всхлип, не увидела прижатую к лицу ладонь и наливающийся кровью багровый след от виска до подбородка. Как от плетки.
В деревне уже давно привыкли, что иногда по утрам дочь Чертобоя-старшего уходит за стену. Зачем? Ну, зачем-то ей это нужно. Может быть, поля проверяет или ловушки на них устанавливает. Иногда приносит грибы, ягоды, букеты лекарственных трав — да пусть ходит, если не боится попасть на зуб тваренышам. Не маленькая, вон — карабин наготове и шашка на боку. Дева-воительница. Ведьма! Последнее, впрочем, скорее в похвалу.
Дорога — всего лишь две узкие протоптанные стежки параллельно друг другу. И те постоянно зарастают травой, расползающейся с середины. Пусть, зато не будут скользить под ногой и раскисать после каждого дождя. Эту недавно прокашивали — жесткая щеточка стебельков похрустывает под сапогами. На обочине небольшая копешка, сметанная, пока сено еще сырое. Перегнивает, а на следующий год пойдет под вспашку вместо навоза.
Дорога уходит дальше к югу, в сторону Фроловского и Грудцино, но Лена сворачивает вправо, на едва заметную тропинку. Там, через десять минут неторопливого шага, на самом краю громадного оврага, ждет старый друг — столетний дуб с бьющим из-под корней родником. И новый знакомый, который, она чувствует, изо всех сил хочет стать другом. Только зачем ему это? Именно ему?
Он появился два, нет, уже три дня назад, в день рождения, когда отец со старшим братом уехали, не дождавшись праздничного обеда. Обидно. Можно понять, что дела подождать не могут, но ведь и тринадцать лет бывает только один раз в жизни! Обида… и чтобы не срывать ее на младших, она ушла сюда, к старому дубу, на толстой ветке которого можно лечь и молчать, слушая тишину, жаворонков и шелест листвы. А потом… потом достать флейту и вдохнуть в нее душу. Пусть оживет, запоет мертвая деревяшка, выплескивая и развеивая над полями девичьи несчастья!
Дома — гитара. Живая, своенравная, с характером испанской доньи, закалывающей мантилью отравленным стилетом. Неподдающаяся, покорная только сильным рукам старшего брата, которого одного лишь признала равным себе. А при вдохновении — превосходящим. Девичьим же пальцам не подчиняется, не строит, дребезжит серебром басовых струн, сопротивляется. Так что — флейта. Хрупкий кусок дерева с чуточкой кости и металла, неизвестными путями попавший в эту забытую богом деревню.
Вот и тогда… Сидела опустошенная, выдохнув из себя всю жизнь в импровизацию, в жалобу, в детский плач. Открыла осушенные внутренним огнем глаза, посмотрела вниз — чтобы сразу встретиться взглядом со Зверем. Круглые зрачки, не обычные, кошачье-змеиные. В них — интерес? И ванильный запах мыслей. У тваренышей есть мысли? Наверное, если они чувствуются.
Флейта полетела вниз, когда рука потянулась к карабину. Но зверь, вопреки ожиданиям, не бросился на промелькнувший инструмент, остался на месте, скаля клыки в каком-то подобии… улыбки? Вздор и бред, единственное, на что они способны, — жрать. Единственная эмоция — голод. Мутант? Урод среди себе подобных? И гораздо крупнее остальных — размером с хорошую кавказскую овчарку, только не такой лохматый. Застыл, чувствуя взгляд сквозь прорезь прицела. Шаг вперед. Палец выбирает холостой ход спускового крючка. Еще шаг. Придержать дыхание… Третий… На что надеется? Зверь-самоубийца? Десять шагов — и ванильный запах. Подошел к флейте. Они же не видят неподвижные предметы? Этот — видит. Взял передними лапами, протягивает. Поднялся на задние, воткнул инструмент в трещину в коре. Отошел, пятясь задом, застыл. Сыграть еще? Ему? Да не жалко, пусть слушает.
А дома долго колотила запоздалая нервная дрожь. Он — враг. Но тогда почему провожал почти до самой стены, держась в десяти шагах впереди и чуть левее, как будто специально предоставляя выгодную позицию для выстрела? Лишь немного не доходя до ворот — растаял, исчез во ржи, посеянной по обеим сторонам дороги.
На следующий день встретил на том же месте, где расстались накануне. Зверь оставался неподвижным, ожидая приближения девушки, и поднялся, только когда опять оставалось десять шагов. Шел впереди не оборачиваясь, только у самого дуба сделал широкую дугу, освобождая место для прохода. А потом вновь запела флейта.
Сегодня так же — только клыкастая улыбка уже не кажется такой уродливой. Красавица и чудовище? Пусть так, а что делать, если единороги давным-давно вымерли? А в сказках из чудовищ порой получаются вполне приличные принцы. Из этого, правда, недомерок какой-то выйдет. Вот он приосанился, будто чувствует мысли о нем, шевелит круглыми, как у мышки, ушами. А морда вовсе не крысиная, зверь больше похож на виденную только на картинке росомаху, особенно в профиль, когда останавливается и к чему-то прислушивается, повернув голову. В этот момент смешно подрагивают усы-вибриссы. Ярко-рыжие, они хорошо заметны даже с десяти шагов.