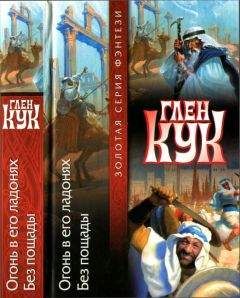Я невольно заглянул за его спину. В открытых глазах Аврелия стояли слезы, забинтованную руку он держал перед собой, словно белый флажок. Напротив сияла яркая лампа. Да, если на нее долго смотреть, действительно начнут слезиться глаза…
– Капитан отрежет его от меня, – буркнул Луций, точно зная, что все мы ждем новостей. – Говорит, я потому агрессивный, что нервничаю…
Капитан внимательно изучил все возможности, потому что оперировать мог только наверняка. Я думаю, если бы он сомневался в успехе хоть на один процент, то отказался бы от разъединения, даже если бы Луций со злости принялся убивать всех по очереди.
Он не мог совершить убийство, не мог рисковать.
Все время, пока капитан изучал соединение близнецов, Луций горел радостным нетерпением и кидался ко мне со своими мечтами и надеждами:
– Я буду спать на спине! Один!
Аврелий притих. Он больше не поднимал руки и не пытался проявить самостоятельность. Луций не позволял с ним общаться, искренне считая, что Аврелий – пройденный этап, и после операции его сгрузят в мусорный бак и нажмут кнопку сброса.
Я уверен, что примерно так же размышлял и Аврелий, убежденный в том, что является всего лишь мерзким наростом на чужом теле.
Сантана безразлично смотрел вниз. За его спиной в лиловом слое медленно вращались ганглии «сайлента».
– Я подружился с Аврелием, когда он восстанавливался после операции. Его положили на кровать, я пришел посмотреть и остался. Никакой он был не паук, просто худой очень… Ему с Луцием было неудобно, поэтому он горбился и выворачивался, а в одиночку – лежал прямо, был самым обычным… как все мы, и очень на меня и Луция похож. Я пришел, а он улыбается. Мне так стыдно стало, что будь сердце на положенном месте, лопнуло бы. Стыдно и больно, будто я вместе с Луцием ему руки ломал. Потом капитан перевел его на Небо-2. Сказал, так будет лучше. Больше я его не видел, и думаю – хотел бы увидеть и извиниться… было за что.
Я помолчал немного и добавил:
– Еще я решил у тебя заранее прощения попросить. Я должен был тебя отговорить от идеи пилотирования «сайлента».
Х-рр-таммм…
Эхо взметнулось и кинулось спасаться к потолку, но не успело. Потолок вскинулся, словно подброшенная шапка, и медленно повалился обратно, ломая хрупкие стены.
Напротив появился пролом. Прямо в лазурных небесах, в которые умиленно смотрели голозадые младенцы. Второй пролом появился надо мной и в него ворвался свистящий дурниной ветер.
Отплевываясь от пыли и прижимаясь к уцелевшей лестнице, я успел заметить, как в тучах пыли осыпаются благие лики, и вперед них, торопясь, мчится выпуклый небесный свод, который украшал собой пределы величественной церкви. «Сайлент», наглухо задраенный, стоял в центре, наклоняясь вперед, и, сжав кулак, методично бил в хрупкие фрески, и те проваливались, а вместо них вырастали и поднимались из влажного тумана городские пики и башни.
Лестница подо мной тоже держалась недолго. Сначала ее повело вправо, потом причудливо изогнуло, и ступени посыпались одна за другой.
Падая, я цеплялся за все, что видел – а мимо летели куски и глыбы, каменные завитки, доски, дранка и…
(Не злитесь. От зла много вреда.)
Командор говорил, что я хуже, чем убийца, потому что не понимаю, что творю. Я никогда не видел причиненной мной раны, не видел ее крови и не пережидал последние судороги, чтобы порыться по карманам убитого. То, что я стою в стороне, Командор называет равнодушием. Он говорит, что среди заповедей, которые нам даны, нет ни слова о равнодушии, потому что они все – и есть суть равнодушие.
Создавайте мир в молчании.
Вы все равные для меня и между собой.
Не злитесь.
Не причиняйте друг другу боль.
Командор говорил, что принцип жизни капитана Белки – это принцип улитки, прилепившейся к стене, в размеренной холодности своего бескостного тельца находящей жизнь. В панцире своих убеждений она висит и тянет усы в разные стороны, и прячется тогда, когда погода меняется или на нее падает резкая тень.
Командор говорил, что сама любовь есть та странная затяжная стадия боли, при которой она застывает во времени в периоде пред-ожидания, и потому ощущается счастьем. Еще не. Все еще не. Все еще не больно – вот что такое любовь, по мнению Командора.
Он говорил, что изучает меня с отвращением, потому что не видел никогда прежде таких медлительных, скользких и непомерно жадных к смерти убийц. Таких изощренно жестоких существ: молча глядящих на то, как умирают, гибнут, превращаются в… «сайлента».
Я ходил по городу, надвинув на лицо капюшон, потому что стыдился показать свое лицо. Мне казалось, что все, что есть вокруг, – отворачивается от меня, что сами заборы показали изнанку, что луна скрылась за облаком из-за меня…
Я должен был убить Сантану еще тогда, когда впервые увидел, что с ним сделал «Тройня». Я должен был убить его без сожаления, но… улитка пошевелила усиками, спряталась в панцирь, бурча «мир вам»…
Впервые со дня смерти Ани я плакал так, что у меня заболело внутри – где-то под шеей и ключицами.
Сантана – глупый. Ему показали «сайлента», и он схватил его, надеясь убежать, передать машину Альянсу толстяка Ббурга и получить деньги.
Он такой же глупый, как все мы, дети капитана Белки, и пока мы ведем себя так, как завещал капитан, глупости будут множиться и множиться, громоздиться одна на другую и превращаться в фатальные.
Гулял я до утра. Небо окрасилось таким прозрачным светом, словно кто-то высыпал у горизонта сотню тонн розовых лепестков. Близость Края.
Под бетонной осыпавшейся ступенькой, на которую я присел отдохнуть, зашевелилась куча мусора, и выполз наружу Редд, поправляя вязаную черную шапочку на почти квадратной голове.
– Слышал? – хрипло спросил он. – «Сайлент» ушел. Мы за ним побежим, надо вернуть… – и он закашлял.
До меня дошло, что было гарантом безопасности города-корабля: конечно же, «сайлент». Невидимый для своих, он был орудием возмездия в случае непредвиденных шагов со стороны Луция. Не вычислишь, не отнимешь… приходилось считаться.
Я сплюнул горькую слюну и долго с отвращением растирал ее подошвой ботинка. Мерзко было, тряслись мои улиточьи мышцы, корчились и содрогались, и в конце концов удивленный Редд предложил мне выпить. Он налил в стаканчик-крышечку какой-то травяной дурной микстуры, в которой помимо ромашки-мятки-полыни содержалось еще и огненных семьдесят градусов.
– Полезное, – любовно сказал он, пряча флягу. – Ты покашляй и пройдет…
– Что дальше? – спросил я, прокашлявшись.
– В Край-то как хочется, – тоскливо сказал Редд. – Посидеть на травке у ручейка… эх…