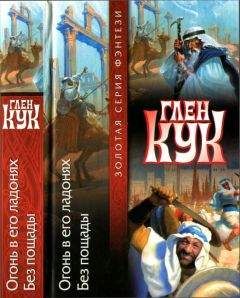Яблоки созрели и висят неподвижно. Иногда слышны глухие толчки, словно умирающее сердце все еще пытается встрепенуться – это тяжкая осенняя падалица и подмерзшая земля.
В моем доме пусто, хотя я точно знаю – здесь были и моя мать, и мой отец. У крыльца старый велосипед с рулем, обмотанным проволокой. С тревогой поглядывая на небо, я взбираюсь на него и качу прочь, и по пути ко мне присоединяются другие дети, тоже сосредоточенные и молчаливые.
Мы хотим жить. Очень хотим жить, и потому так отчаянно рвемся к мосту – кажется, попадешь на другой берег – и останешься цел.
Только мост разрушен, и я остаюсь на нем, цепляясь за перила, и смотрю, как исчезают с глади черной реки головы моих молчаливых спутников.
Воспоминание настолько яркое, что иногда я начинал ему верить. Окончательно просыпался и размышлял: возможно ли это, возможно ли, что капитан не создал нас, а собрал нас?
Случилось мерзкое: сознание принялось расслаиваться, я верил то одному, то другому, и картины прошлого – то коридоры на Небе-1, то деревенская пыльная дорога – принялись соперничать в яркости.
Очередное туманное утро я встретил с четким осознанием, что я – открытка с изображением. С глянцевой картинкой, с адресом на обратной стороне, адресом, по которому давно никого не найти. После этого я не смог больше спать. Мне было тяжело терять сознание – казалось, что если я сейчас отключусь, то больше не вернусь. Страх потерять над собой контроль – это страх панический. Я боялся спать, боялся этой ненормальной путаницы, и боялся потерять мои мысли, сознание, боль. Как потерять сознание осознанно? Поиск родственного разума. Сигнал в космос. Чем больше я пугаюсь бессознания, тем больше я понимаю, что в реальности я тоже мало к чему прикреплен.
Лондон пришел очень вовремя. Не помню, как его встретил, помню только тепло, его холодные пальцы и приятный вкус таблетки на языке. Такие таблетки – белые тонкие пластинки со вкусом апельсина, лимона и яблока, спасали нас от всего – от боли, от хандры, от бессонницы, от многих-многих неприятностей, которые случались с детьми, запертыми в космическом корабле под присмотром с трудом говорящего скафандра.
Я уже и забыл, что такие вещи существуют, и забыл, какое облегчение они приносят.
– Выспись, – сказал Лондон и укрыл меня чем-то тяжелым и пахнущим человеческим теплом. Пока я спал, он посыпал снегом пол и все углы моего жилища, а потом старательно вымел снег наружу. Вытряхнул и тщательно выбил на морозе все мои тряпки, не рассчитал сил и закашлялся страшно – наутро я нашел несколько кровавых прогалин.
Он выгреб из очага весь сор, объедки и стекло, и натаскал чуть влажных, остро пахнущих хвойных веток, и всю ночь просидел за столом, задумчиво глядя на темный глазок-сучок на плохо выструганной доске.
– Как ощущения? – спросил он, когда я принялся возиться на кровати.
– Нечто, – ответил я, кутаясь в яркую синтетическую куртку, – таких днем с огнем не найдешь, теплые удивительно, что-то там есть такое в подкладке, что легкое, как пушинка и греет, как целый стог сена. – Отличная у тебя куртка…
Лондон посмотрел на меня через плечо: скулы острые, губы ниткой, на щеках по алому шелушащемуся пятну.
– Забирай, – меланхолично сказал он. – Тебе пригодится.
– Выпьешь?
Он облизнул сухие губы розовым клочком языка, отрицательно покачал головой.
– Я искал тебя или Сантану. Думал, найду тебя – найду его. Очень жить хотелось.
Где-то под кроватью у меня хранилась коробка с пыльными сухими хлебцами, я вытащил ее, сдул с хлебцев пыль и подал к столу. Лондон взял один и принялся жевать, как беззубая собака, – на одну сторону, скривившись.
– Получилось наоборот – нашел Сантану, нашел тебя.
У меня все-таки дико болела голова. Даже чудесные таблетки – и те не помогли. В висках дергало, гудело, зрел в затылке кровавый густой пузырь и катился куда-то ко лбу. Шею словно в клещах держали. Выглядел я, наверное, очень хреново – Лондон разглядывал меня внимательно и с тихим осуждением. Его серые спокойные глаза тонули в багровых полукружьях.
Пока я сливал из всех бутылок в доме остатки спирта, рома и самогона, он деликатно хрустел хлебцем.
– Это еще ничего, – сказал я, выглотав полстакана теплой алкогольной мешанины, – я однажды проснулся и думаю: чем бы похмелиться, а похмелиться нечем, и пришло мне в голову, что в моей крови полно спирта, и если разрезать руку и нацедить крови, то вполне можно…
– Интересно, – скучающим голосом ответил Лондон.
– Сам тогда что-нибудь расскажи, раз не нравится.
– Хорошо.
И монотонно, равнодушно, перемежая рассказ треском разгрызаемых хлебцев, Лондон рассказал мне, что рай разнесен в клочья. Невиданный черный «сайлент», которым обзавелся Луций, уничтожал все и сразу: маленькие наши белые домики, в которых просыпались вместе с солнцем, бьющим через бамбуковые жалюзи; с трудом выращенные хвойные посадки, которыми занималась Ани; пышные нагромождения пальм, плодовых деревьев, кустарников вместе с мелкими птичками, вьющими крошечные гнезда-мячики.
Он превратил в пыль лаборатории с хранилищами генетических маркеров (не видать нам больше семейства морских львов, подумал я, никаких Уинтерз и Дикки), образцы, записи, программы, таблицы, схемы, инструкции, хранилища химических реактивов.
Вся химия, предназначенная для климатических платформ, уплыла в океан Милли, там теперь, сказал Лондон, смрад и грязь.
Единственное, что он не стал разрушать – это энергетические блоки, красные кристаллы в цельной белоснежной упаковке. Их он унес с собой.
– Это дань Командору, – сказал я. – У Командора были серьезные проблемы с энергией.
До меня наконец дошло, почему Командор так обрадовался Луцию и вручил ему Ворона.
– И о чем он думал…
– Он начинает заново, – пояснил Лондон, – и в чем-то он прав. Все, что было под куполом – заражено неправильностью. Как и мы все. У тебя нет никакой странной тяги?
– Не знаю, – ответил я и посмотрел на стакан.
– А у меня есть, – утомленно сказал Лондон. – Ты ничего мне не сделаешь, если я признаюсь? Я и так скоро умру… Это я пытался убить Ани. Не потому, что Комерг заявил, будто бы она специально разрушала наши кристаллы, а потому что это было веской причиной, чтобы освободиться. Я всю жизнь ощущал себя будто в мягкой клетке. Знал, что нельзя, нельзя убивать, нельзя проявлять себя, мучился… но всегда хотел. И когда нашелся повод, я оправдался им и выплеснул все, что накопилось. Я надеялся, что она умрет, но был неопытен, не смог довести дело до конца, хотя сумел все скрыть, и повезло мне, что Ани не запомнила, кто это сделал.
Потом я много раз выходил за купол и находил людей, которых тоже убивал. Синдромеры… они даже казнили там кого-то за мои дела. Это очень стыдно – так жить, Марк, очень больно, потому я чаще других запирался в «сайленте» и много думал.