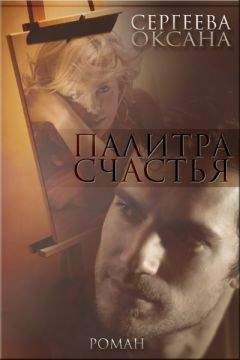Но Званкино счастье длилось недолго.
В тот вечер Игнат то ли замешкался, то ли действительно не увидел приближения дядьки Касьяна. Только очнулся, когда на его ухе сомкнулись крепкие заскорузлые пальцы и прокуренный голос грозно произнес:
— А вот я тебе щас таких лещей всыплю, щусенок!
От боли Игнат взвыл, и попытался вывернуться из захвата, но Касьян держал его крепко. Зато Званка, заслышав Игнатов вой, кошкой спрыгнула с дерева и дунула вниз по улице, по пути теряя награбленную добычу.
— Вот стерва! — сплюнул Касьян и погрозил вдогонку кулаком. — Ничего, разберусь с тобой еще!
А Игната поволок к бабке Стеше и швырнул в избу, будто куль с картошкой. От боли и обиды на глаза мальчика навернулись слезы, но хныкать он не стал, только закусил губу. По ее суровому виду заметно было: наказание не заставит себя долго ждать, и ремень бабки еще не раз пройдется по его спине.
— Вот какого помощничка я себе воспитала! — причитала бабка Стеша. — Были бы живы родители — со стыда сгорели! Где же видано, чтоб мой внук по чужим садам как по собственной хате разгуливал? Да с кого ты пример берешь? С оборванки этой?
Игнат насуплено молчал, грыз ноготь.
— У Добушей бандитка растет, а ты ей в рот заглядываешь, будто завороженный! — продолжала бабка и всплескивала руками. — Своего-то ума нету! Только ничему хорошему она тебя, дурака, не научит. С пути собьет да на смех подымет. Да и саму, паршивку этакую, еще Господь накажет. Вот уж судьба свела с соседушками…
Она еще много чего говорила, злилась и плакала, хлестала Игната ремнем — но не больно, скорее, для острастки. А он все также молчал и думал, что теперь Званка останется без варенья на зиму и дома ее наверняка накажут тоже. И было обидно до слез, что родная бабка клеймит его дураком.
Теперь засела в нем обида на Эрнеста, но и в этот раз Игнат промолчал. Только почувствовал, как провели по его горячей щеке стылой ладонью и тихий голос шепнул: "Ничего, Игнаша… за обиду они ответят…"
— Ты от меня далеко не уходи, — между тем велел Эрнест. — Даже по большой нужде. Я могу и отвернуться, не барин. А вот жизнью рисковать не хотелось бы.
Игнат угрюмо кивнул, но вопреки всем запугиваниям Эрнеста, за Паучьими воротами ничего не изменилось. Все так же текла густая туманная река, все той же настороженной тишиной встречал их лес. Но чем дальше путники углублялись в чащу, тем ниже и кряжистее становились деревья. Солнце совершено заволокло туманной дымкой, блестящая чешуя изгороди осталась позади, и мир стал однородно матовым и белым, как шар из дутого стекла.
— Делаем последний привал, — сказал Эрнест, останавливаясь снова и с видимым облегчением опуская на землю тяжелый рюкзак и чехол с палаткой.
— Так не ночь еще, — возразил Игнат.
— Делай, что говорю! — прикрикнул на него Эрнест. И, заметив, как набычился парень, добавил, уже смягчаясь:
— Не обижайся. Я ведь тут не впервой хожу. Еще пару миль — и болота начнутся. А на болотах ночевать нам вовсе не с руки.
Игнат спорить не стал и принялся устанавливать палатку, что было для него уже привычным делом.
— Надеюсь, ни волки, ни медведи нам сегодня сон не испортят, — буркнул он.
Эрнест усмехнулся и ответил:
— Волки сюда не суются, стороной обходят. Места гиблые.
— Ладно, не пугай, — отмахнулся Игнат. — Будто раньше по другим ходили.
Тьма подкралась незаметно, на цыпочках, обернула лес темной шалью, погасила последние проблески дня. Игнат запалил костер, и оранжевые язычки выхватили из сумрака изломанные силуэты елей, которые, словно сказочные горбуны, обступили лагерь путников и замерли в ожидании, прислушались к разговору.
— Если места гиблые, то почему теперь не охраняются? — спросил Игнат.
Эрнест пожал плечами.
— А чем тут поживиться? Только утварь для коллекционеров и можно найти. Самое ценное враги сожгли при отступлении, а чистильщики что могли спасти — то вывезли и грифом "секретно" припечатали. До остального никому дела нет. Вот ворота и стоят без надобности, ориентиром служат да напоминают, что опасно сюда неподготовленным людям соваться. Зверья здесь нет, ягода не родится.
"Совсем как в Солони", — подумал Игнат.
Он первым вызвался нести дозор, и, отправив Эрнеста спать, придвинулся к огню, плотнее завернулся в теплый овчинный тулуп. Ружье Игнат поставил между колен и смотрел, как играет, потрескивает пламя, время от времени выплевывая в небо горячие искры. Огонь успокаивал, отвлекал от тяжелых мыслей, что продолжали разъедать душу Игната. И на каждый шорох еловых лап он вздрагивал, словно не ветер ерошил мех на вороте тулупа, а мертвячка гладила бесплотной рукой.
Вот сейчас обнимет она сзади. Вот шепнет в уши: "Игнашша…"
Парень очнулся от дремоты, выпрямился и огляделся.
Туман стлался теперь у самой земли, грязным бинтом стягивал изломанные кости деревьев. Где-то раздавались сырые чавкающие звуки, словно кто-то, причмокивая, пил из крынки топленое молоко. Потом послышался тяжкий и глубокий вздох.
Игнат подскочил, спросил негромко:
— Кто здесь?
Голос прозвучал глухо и сорвано, пальцы судорожно вцепились в приклад.
Тишина.
Ветер улегся. Деревья гнули к земле уродливые макушки, будто кланялись Игнату в пояс: не гневайся, пан, пугать тебя не собираемся. За ближайшей елью почудилось движенье.
Облизав губы, Игнат вытолкнул из горла сакральное имя:
— Званка?
И замолчал, ожидая ответа, всмотрелся напряженными глазами в клубящийся, будто подсвеченный изнутри, туман.
Но это была не она.
От ближайшей ели отделилась фигура: шаль соскользнула с головы, плетью упала за спину темная коса.
— Марьяна?
Кинуло в жар. Из-под шапки на лоб выкатились крупные градины пота.
— Холодно-то как, — жалобно прошептала Марьяна и зябко охватила себя за плечи.
Это не могло быть реальностью. Разве не уехала она на родину, провожая предавшего ее Игната взглядом растерянным и скорбящим? Сколько с той поры времени утекло, сколько дорог исхожено. Ждали впереди гнездо вещей птицы и потаенный родник с мертвой и живой водой, в который всей душой верил Игнат, а не верила одна только Марьяна.
Но теперь она была здесь — озябшая на морозе, растерянная, живая…
— Не могла я уехать, Игнаша, — тихо сказала девушка и заплакала. — Ведь люблю я тебя! Полюбила сразу, как только увидела. А ты — оставил. И ради чего? Ради костей, давно истлевших? Ради дурацкой фантазии?
Сердце заныло, сжалось от нахлынувшей вины. Ружье выпало из ослабевших пальцев, глухо ударилось о землю.