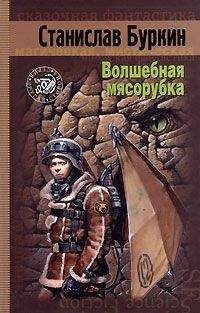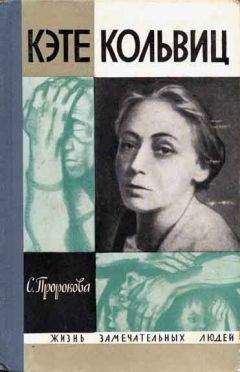Утренний город замер. Спешившие по своим делам люди останавливались на мостиках и воздушных переходах, с изумлением глядя на круглый небесный экран. Только через двадцать минут догадались объявить воздушную тревогу. Муравейник оживился, и миллионы зрителей побежали в убежища, но при этом люди продолжали озираться на небесную надпись. Когда вой протяжной сирены смолк, уродливый город был уже совершенно пуст, и над всеми его ярусами и террасами установились покой и звенящая тишина.
Прожектор обесточили, лампа медленно остыла, и диск померк. И тогда подразделения внутренних войск узрели на потухшем светиле малюсенькую фигурку в желтом плаще. Тариэл стоял, гордо расставив ноги, и неподвижно ждал, когда его арестуют. Вскоре к нему поднялась полицейская машина на воздушной подушке и зависла напротив него, под дирижаблем.
– Ни с места! Руки за голову! – сквозь гул турбин сказали Тариэлу через мощный репродуктор. – За попытку сопротивления открываем огонь на поражение!
На палубу полицейского судна один за другим выскочили бойцы группы захвата и приступили к процедуре ареста. Снайперы, стоя на одном колене, держали подозреваемого под прицелом, а остальные причаливали к прожектору. Зацепив карабины за страховочные канаты, они один за другим медленно двинулись к Тариэлу.
Он не сопротивлялся, покорно следовал всем указаниям и через пять минут сидел, скованный по рукам и ногам, в полицейской машине.
Его пытали, но от этого только облучились сами мучители. А он молчал, потому что не чувствовал боли. Перед арестом он раскусил ампулу с тем сильным обезболивающим лекарством, которое достал для него папаша Нестан, и поэтому оставался безмолвен во время самых изощренных пыток. Он не боялся, что его покалечат: он знал, что жизнь кончена.
Когда медицинская комиссия поставила диагноз, пытки немедленно прекратились. Врачи сообщили трибуналу, что узник может умереть в любой момент, и те решили как можно скорее вынести приговор. Для публичной казни он должен был оставаться живым.
В полдень следующего после ареста дня вокруг затопленного карьера собрались толпы людей, среди которых было много школьников. Телевизионщики с камерами стояли на своих серебристых автобусах и летали над озером в корзинах монтажных кранов. Казнь транслировали в прямом эфире.
– Мы продолжаем прямую трансляцию казни военного преступника, исполнителя чудовищной политической диверсии. Напомним, что террористическая акция была произведена вчера…
Офицер на башне нажал кнопку, двери лифта разъехались, и все увидели Тариэла в сопровождении двух надзирателей в химзащитных костюмах. Рот юноши был зашит проволокой, лицо осунулось, волосы почти полностью поседели. Наверное, многие зрители подумали, что перед ними стоит невысокий щуплый старик, одетый в ярко оранжевую робу, обильно обшитую бирками с номерами.
– … По сообщениям пресс-службы правительственной комиссии в настоящий момент проводятся экстренные мероприятия по задержанию организаторов беспрецедентной подрывной акции. Пока что следствие…
– Папа, кто это?
– Это враг, доченька, это наш враг.
– Он дэвианин?
– Хуже. Он шпион и предатель.
Тариэл щурился от дневного света. По команде офицера он скованной походкой двинулся к мостику. Руки были связаны за спиной, а на ногах висели свинцовые браслеты. Тариэл очень долго, но равномерно двигался по стреле. Он семенил от груза на ногах, тяжело дышал, и его дыхание со свистом вырывалось сквозь металлический шов на губах. Не будь его рот зашит, он, наверняка проклял бы змея или пообещал бы вечно любить Нестан. Но он не мог этого сделать, только тяжко дышал и смотрел в пустоту.
Ему не было страшно, и смерть манила его, словно свежезастеленная кровать после тяжелого дня. Зимний ветерок мягко подвывал в ушах, трепал волосы, ласкал кожу, и Тариэл прислушивался к нему больше, чем ко всему остальному.
А люди смотрели на оранжевую фигурку и слушали, как голос чиновника разносится от горизонта до горизонта через репродукторы, установленные на специальных машинах. Оглашался приговор верховного трибунала.
Тариэл, волоча ноги, брел по длинной стреле над карьером, пока не остановился у самого края, где уже не было тонких перил. Он стоял, словно ныряльщик на высоченной вышке, готовый взлететь на трамплине и совершить фигурный прыжок. Только не было на стреле трамплина, и человек был не в плавках, а в оранжевой робе.
Внезапно к Тариэлу что-то вернулось, он словно очнулся, холодок пробежал по его спине, голова закружилась… Миг леденящего страха – и острая боль вонзилась юноше под коленку. Донесся глухой хлопок, Тариэл потерял опору и, связанный, молча полетел в широкий круг спокойной зеленоватой воды.
В холодную мартовскую ночь в голодную пору блокады на портовом складе собрались исхудавшие, ослабевшие кошки. Они расположились рядками на ящиках и контейнерах, заполнив все обширное пространство склада. Здесь было совсем темно, и кошкам пришлось зажечь тысячи огоньков своих вылупившихся от голода глаз.
– Товарищи коты и кошки! – обратился к собранию интеллигентный рыже-полосатый кот. – Вам прекрасно известно, что, несмотря на усилия советских властей, положение в блокадном городе остается чрезвычайно тяжелым. Поэтому мы, члены комитета кошачьей безопасности, посовещались с самыми старыми и мудрыми из нас и приняли решение оставить блокадный город.
– Но даже крысы еще не все бежали! – выкрикнул сидящий на ящике матерый кот с вытянутой хищной мордой.
В помещении поднялся писк и гам.
– Тихо, тихо! – призвал оратор. – Это правда. Крыс становиться только больше. Но вы хорошо знаете, чем теперь питаются эти твари. Они расплодились уже в таком количестве, что ради потехи устраивают на нас облавы! Нам не жить в этом городе! Оставаться здесь до начала лета – самоубийство. – Кот понял, что сильно разгорячился и, понизив тон, добавил: – А теперь позвольте предоставить слово старейшему ленинградскому коту господину Вильгельму.
Оратор уступил место, и на составленную из ящиков трибуну взошел старый, облезлый, очевидно, когда-то пушистый персидский кот.
– Благодарю вас, Лев Семенович, – сказал, поклонившись рыжему коту, мудрый старик и, немного помедлив, начал свою неспешную речь. – Большинство из вас родилось и выросло уже во время войны. Вам не довелось повидать мирной жизни, и поэтому вам не с чем сравнивать. Но поверьте нам, старикам, что жить, питаясь падалью, кошкам не должно. Нельзя жить, глядя, как мать поедает своих котят. Большая часть города уже во власти крыс. Мы не стайные животные. Мы не умеем оказать организованного сопротивления. Позвольте напомнить вам, уважаемые соплеменники, принцип, принятый еще нашими праотцами: «Кошка гуляет сама по себе!» Это значит, что мы должны быть, по мере возможности, аполитичны и не вмешиваться в дела людей. Среди нас нет ни немецких овчарок, ни русских борзых, мы не состояли и не состоим ни в одной из воюющих армий мира. Наш удел – жить самим по себе! Поэтому в этой более чем критической ситуации я, самый старый из котов Ленинграда, со всей ответственностью заявляю: молодые должны уйти!