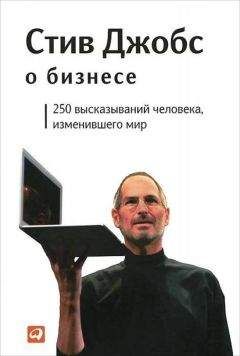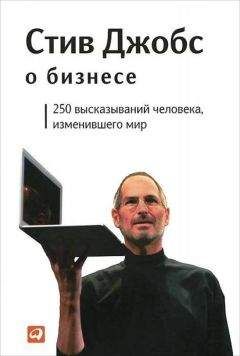Привыкший к советской медицине, Таманский был в шоке.
Да, конечно, Костя, так же как и остальные, иногда ходил к врачу, он, так же как и остальные, сталкивался с хамством медсестер, с равнодушием докторов и тем, что за выписанным лекарством надо побегать, потому что в аптеке, что неподалеку от дома, один аспирин и стройные ряды клизм. Однако Таманский, собственно как и все советские люди, всегда знал, что лекарства можно достать. Надо просто приложить к этому определенные усилия и потратить время. Кое-где козырнуть корочкой «Союза журналистов», кое-где шоколадку на стол положить. И все будет.
Унизительной эту процедуру находили только те, кто никогда не был в благословенном «там» и никогда не оплачивал счета от стоматолога.
С точки зрения поумневшего на капиталистических хлебах Таманского, недостаток у советской системы был только один – железный занавес. И то, что граждане Советского Союза вырывались на Запад в рафинированном формате туристической поездки. Оно и понятно, власть таким образом убивала двух зайцев разом. Во-первых, граждане были под присмотром как товарищей в штатском, так и гида. Что несколько осложняло работу конкурирующих спецслужб, как раз недавно взявших ориентировку на вербовку так называемого среднего класса. А во-вторых, как бы смешно это ни выглядело, власть заботилась о культурном росте своих граждан. Посетить такое количество музеев, выставок, галерей, да все с комментариями, рассказами и лекциями, самостоятельный турист был не в состоянии. Чисто финансово не в состоянии.
Однако эти сильные стороны были одновременно слабостями системы.
Ограничения, препоны, барьеры – а на самом деле излишняя забота – и порождали сладкие и разрушительные мифы о восхитительном Западе, где сорок сортов колбасы, где техника и комфорт, где машины, платья, джинсы и жвачка, где в каждой аптеке можно купить любое лекарство, а магазины забиты под завязку.
Трава, как известно, всегда зеленее на другом берегу реки. А уж если перебраться на другой берег почти невозможно, то трава не то что зеленее, она еще мистическим образом прибавляет в росте и сочности.
Еще Таманский вспомнил, как какой-то морячок, из знакомцев жены, рассказывал за столом с видом бывалого рыбака: «А еще там тебе везде улыбаются. Вот везде! В магазине, на рынке, везде! Потому что у них так положено. Камеры следят специальные, как не улыбнулся клиенту, значит, все, считай, уволен».
Все восторгались, охали-ахали, а морячок кивал с видом знающего человека и все показывал, разводя руками, количество колбас в витрине портового магазинчика.
Камер специальных Костя нигде не видел, но улыбались действительно все. Не из-за камер, а потому что улыбка была таким же товаром, как, скажем, шоколадка или бумажный носовой платок, попользовался и выкинул.
К тому же как не улыбаться, если платят?
А платить тут приходилось на каждом шагу. И это был как раз тот момент, который не учитывали те, кто, развесив уши, внимал «голосам», морячкам и мажорам, окончившим МГИМО только для того, чтобы получить допуск к «тамошним» тряпкам-шмоткам.
По мнению Таманского, выпускать из Союза надо было всех желающих, чтобы на собственной шкуре прочувствовали все прелести «той жизни». И чтоб, накушавшись колбасы и улыбок, возвращались назад.
Жить на горбу у женщины Таманский не мог. Однако денег у него, считай, тоже не было. И все, что он мог сделать, – это, несмотря на протесты Маризы, сунуться в парочку местных газетенок. На предмет работы.
В двух газетах ему отказали. Редактор безо всяких улыбок показал ему на дверь. Буквально. В третьей поинтересовались, не может ли он выполнять роль корректора на испанском. В четвертой кинули мелкий, но срочный репортажик с манифестации представителей рабочих коллективов. Костя ухватился с радостью.
Через десять минут он уже был на бульваре Аманцио Алькорта, где шумная и больше всего походившая на карнавальное шествие толпа размахивала транспарантами и флагами Аргентины. Костя нырнул в это сборище, тыкая диктофоном то в одну, то в другую сторону. Лозунги и крики он переведет потом. С возвышения надрывался оратор. Ему отвечали, потрясая кулаками и знаменами.
Таманский ухватил за локоть какого-то солидного горлопана, в костюме и с круглым брюхом.
– Простите, какие у вас требования?
Брюхан обернулся к Косте, глаза его блестели.
– Журналист?
– Да.
– Вот и напиши, журналист, что мы хотим работать! Работать, а не просиживать штаны дома на пособии! Если Сервантес не даст нам работу, мы разберем его завод к чертовой матери!
– Сервантес, кто это?
– Глава правления нашего завода… – Толпа пришла в движение, толстяка начали оттирать от Таманского. Но тот кричал, обращаясь к журналисту: – Он нанимает штрейкбрехеров! А мы хотим работать и получать деньги!
– А кто, кто вы такие? Откуда?
Но их разнесло в стороны. Костя попытался разговорить стоявших рядом. Но ему не везло. Никто не знал английского. На него смотрели как на чужака, стараясь отойти подальше.
И вдруг что-то произошло.
Оратор, витийствовавший на трибуне, замолк. Толпа на какой-то момент замерла. А потом взревела.
Таманский встал на цыпочки, оглядываясь по сторонам, стараясь понять причину происходящего.
И понял.
Демонстрантов медленно, но верно оттесняли в сторону набережной отряды конной полиции. Пока без драки. Кони просто шли вперед, всадники сидели на них в непроницаемых зеркальных шлемах, рыцари среди черни. Какой-то полицейский чин, взобравшись на освободившуюся трибуну, кричал в мегафон. Вероятно, призывал разойтись.
Таманский понял, что дело дрянь, выскочил в первые ряды и, тряся красной книжечкой Союза журналистов, кинулся к полицейским.
– Советский журналист, советский журналист! – кричал Таманский.
Он почти столкнулся с лошадью, которая всхрапнула, прижала уши и покосилась на Костю, страшно выкатывая белки.
– Советский журналист! – крикнул Таманский в зеркальное забрало.
Всадник на мгновение задержался. В ровном конном строю образовалась дырка. И Костя нырнул в нее, мигом очутившись в безопасности. За оцеплением.
С бьющимся сердцем, тяжело дыша, он прислонился к стене дома. Посмотрел на свое удостоверение и улыбнулся:
– Надо же… И тут работает.
Тем временем рабочих бойко гнали к парапету, разбивали на группки и вязали по одному. В кавалеристов полетели бутылки, кто-то швырнул камнем. Испуганно заржала лошадь.
Чин на трибуне плюнул, отбросил мегафон и махнул рукой.
В тот же миг всадники сорвались с места, рубя дубинками, как мечами. Вслед за ними кинулись пешие полицейские.