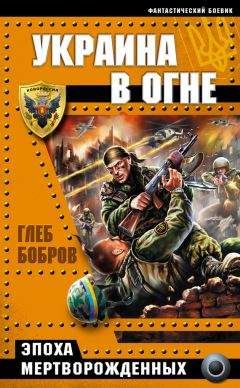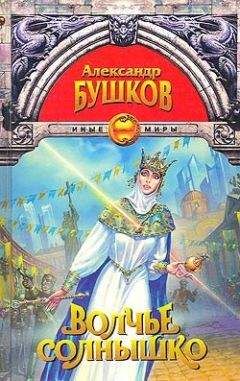Вернулся с задержкой, уже к обеду. Народ все еще колобродит. Построил…
— Итак… Кто остается в обороне — подошли сюда!
Остается большая половина. Блядь! Весь костяк. Ничего, сейчас разжижу…
— Кобеняка — три шага вперед. Бугай — следом. Стовбур — вперед. Ты — тоже. И ты. Так… О! Прокоп, хватит с тебя трех дырок — быстро рядом с остальными… Я не спорю — я приказываю… Молчать всем!!! Антон — рот закрыл! Сейчас и ты пойдешь, умник, бля! Дядь Михась, иди сюда. Не артачься, сказал! Вот так… Всё, что ли? — Мужики, краснея и отводя глаза, выстроились третьим строем. Ну! другое дело… — Жихарев! Бери остающихся. Разбирайте, что привез. Ночью продолжаем стройбатиться и нычкарить[148]: сегодня — помогаем саперам и тарим привезенные граники по базам сектора. Остальные! В этой «Ниве»… — я указал рукой за плечо, — капитан Бурсаков! Звать — Андрей Петрович. По очереди: подходите, записываетесь, сообщаете ему пункт назначения — куда вам надо, то бишь. Следом получаете у него свой маршрут, пропуски и денежное пособие. Стовбур! Тупо подели кассу и раздай всем поровну. Только отъезжающим — нас не считать! Объявишь всем, сколько выходит на рыло. Я потом проверю, понял?! — Женя преданно и на всякий случай виновато кивнул. — Кобеняка, иди сюда. Бугай — ко мне!
Когда подошли, отвел их чуток в сторону и, понизив голос, выложил напрямик:
— Василь Степаныч, забирай мой джип, мне он больше без надобности. И еще, прошу, возьми с собой Мыколу. Только тебе могу пацана доверить… Присмотри, вместо Деда. У тебя под Осколом все равно такая орава, что, считай, целый строевой взвод. Один рот…
— Да о чем ты, Аркадьевич?! Все будет хорошо. За сына парнишка будет.
— Мыкола?
— Га?
— Та не гакай, дытынко… — шутя ткнул его кулаком в броник на пузе. — Ось Васылю Стэпановычу… Вин будэ тоби шо батько. Вин — гарный, ты сам бачив, та памъятаешь. Бувай здоров, сынку! Хай тоби щастыть… — Обнял растроганного парнишку, потом своего седоусого подполковника. — Давайте, собирайтесь, мужики, посветлу, пока… — Повернулся к притихшим остаткам отряда: — Леха, выгрузи шмотки из джипа, машина уезжает.
Тут третий раз за день в нагрудном кармане мелкой дрожью стыдливой женской радости забилась мобилка. Бутыль ставлю — Алена… Так и есть. Ну, кранты — пошла на характер, теперь будет набирать, пока я трубу не возьму. Отошел, сел в тенек, под стеночку.
— Да, солнце…
— Можешь говорить?
— Угу. Что у тебя, Мамсик?
— Просто звоню. Как дела — узнать. Все нормально?
— Было бы иначе — ты б первая узнала…
— Типун тебе на язык!
— Уже…
— Я вернулась.
— Откуда?
— Папс, не тормози! Я к малой в Воронеж ездила. И домой, к своим, заскочила.
— Да, точно. Прости! Как она?
— Хорошо. На каникулы обещает приехать. Такая взрослая… Ночевала в общежитии. Легли, чувствую — принюхивается ко мне. Спрашиваю: «Что — пропотела, да?» — а она мне отвечает: «Какая ты дурочка — от тебя мамкой пахнет!» А я чувствую — отошла от меня. Уже выросла, моя красавица…
— Хм…
— Просила тебе не говорить… У нее мальчик появился.
— Кто?
— Студент физмата. Зовут Илья. На два курса старше. Не нахвалится.
— Ботан?
— Что?
— Ничего… Они — уже?
— В смысле?
— В прямом! Что спрашиваешь?!
— Не кричи на меня… Откуда я знаю!
— Извини! На себя злюсь. Скоро внуки пойдут, а я тут, как последний мудак, — весь в говне и паутине.
— Возвращайся…
— Не могу, солнышко. Прости…
— Передают, будут город штурмовать.
— Пусть штурмуют. Я не в Луганске.
— Хочешь — я приеду?
— Нет!
— На день. В Краснодон и обратно…
— Даже не думай.
— Что у тебя, вообще?
— Мамсик, давай позже — у меня совещание идет.
Не дожидаясь ответа, отбил связь. Надо бы тебе, Аленушка, начать заранее свыкаться со статусом вдовы…
На восьмые сутки боев я почувствовал: еще немного — и просто сойду с ума.
Время тупо зависло. Голова расплавленным оловом налита. Перед глазами постоянно оранжево-зеленые масляные завитушки в глицерине довоенного светильника. Если бы не проклятая техника, то и дням бы счет потерял. Месиво вокруг идет несусветное. Шаримся по всем топкам Юго-восточной линии обороны. Воропаев, сучара одноглазая, кидает нас из одной сраки в другую. Причем исключительно туда, где жарят — во все дыры! Еще и ржет, гондон! Говорит: «Фаши как слышат по связи твои позывные, так сразу срутся». То, что сами мы как из жопы достатые, — никого не вставляет!
Нам везет. Не считая троих раненых, пока — тьфу-тьфу. Чапу только жалко; точно мой кандагарец без правой руки останется. Предпоследний братишка… Рядом Борек Никольский сидит: он — последний. Вот и вся афганская гвардия. Старого и Прокопа, как ни упирались, я заранее отправил по домам.
Вот потому и уворачиваемся, что два десятка нас всего. Сейчас и того меньше. Какой с меня, в жопу, комбат, по-хорошему… Была бы сотня бойцов, положил бы всех.
Сегодня, кажется, доигрались в везунчика — попали под раздачу. Если ничего не произойдет, СОРовцы нас точно здесь живьем под асфальт закатают. Объединенные Силы бесятся, но пока сделать ничего не могут. Мы кротами зарылись на линии гостиница «Турист» — автобаза УВД — Острая Могила и, из последних сил вцепившись обломками зубов в плавящийся бетон подвалов и развалин бывшего ВАУШа[149], стоим с упорством защитников Брестской крепости у последних рубежей прикрытия трассы Краснодон — российская граница.
Видимо, исходя из умозаключения: «Деркулова больше обосрать уже невозможно!» — Нельсон, скотина, вдобавок повесил на меня заложников…
На дальних подступах, у коттеджей поселка Видное, его пластуны хапнули съемочную группу Тбилисского ТВ с аккредитацией Объединенных Сил. Водилу, из военных, грохнули на глазах у телевизионщиков — южной прыти наверняка поубавить. Что там Коля себе надумал, не знаю, только решил он до поры придержать троих присмиревших генацвале у меня в группе. Ну и, по закону подлости, со «здрасьте» напоролись несчастные телевизионщики на Жихаря…
Только по нам, с утреца, отработали установки залпового огня, гаубицы и еще непонятно какая хрень, только по подвалам, продираясь через завалы, вернулись на позиции, тут, пользуясь затишьем, приметается воропаевский порученец с этими тремя придурками, их камерами и прочей ТВ-рухлядью.
В это время на свет божий выползает белый, как лунь, пересыпанный цементно-алебастровой пылью, что тот мельник мукой, Жихарь. Молча кидает взгляд на прижухшую стайку телевизионщиков, отворачивает рожу, расстегивает мотню и ссыт себе в ладошку. Наполнив немалую лохань своей грабалки, всполаскивает запорошенную морду, дует снова, опять умывается и с третьего омовения, прихватив, расчесывая пятерней, еще и темный ежик коротко стриженных волос, спрашивает: