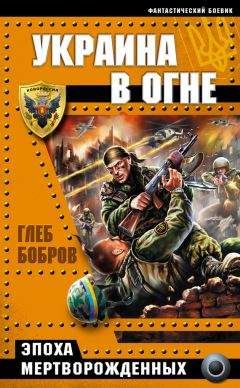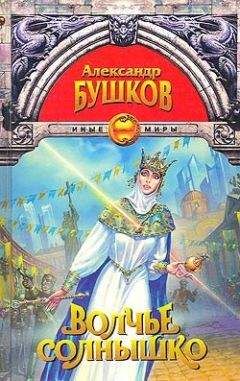— Что за носороги?
— Приказ командира корпуса. Задержанных до выяснения — под вашу охрану.
Моложавый майор, оттараторив текст, шустро развернулся и, кивнув своим бойцам, удовлетворенно потрусил в сторону перекрестка Гастелло и Южно-радиальной. Миссия исполнена, теперь вы ебитесь…
Завели невольных гостей вниз. Стали беседовать. Я в этом цирке не участвовал — сидел, мультики снимал. Через пять минут договорились до бессмертного «малэнький, но гордый птычка». Вы, ребята, нюхнув либерастической демократии, совсем белены объелись, что ли? Нашли — где и с кем…
Юра сверху вниз, наклонив голову, словно ворона в мерзлую кость, заглянул в очи собеседника и выдал:
— А-а-а…. Вот оно, значится, как…. Ну, та-да — ноги в руки… возвращайтесь в свою маленькую, но гордую страну, дружно задирайте клювы в небо и дрочите друг другу свои крошечные, но гордые писюны!
Те, с трудом переваривая оскорбление, заткнулись. Но — поздно… Загодя надо мозгами шевелить: взводный уже завелся.
— Как вы заебали со своим национализмом, падлы… Все — дружно! Вы — кавказёры черножопые, урюки Бабайстана, балтийские чухонцы, кишиневские мамалыжники, крымские зверьки, наши, окраинские — пидары мокрожопые… Все национально озабоченные подпевалы забугорья! Сколько еще от вас крови будет?! Сколько — еще?!! Только нам одним — ничего ни от кого не надо, кроме как умирать на ваших мелочных войнах. На всех кладбищах Союза — офицерские кости без имен и крестов. Зато потом, отвоевав, приезжаете толпой попсовых уродов — звезды голубого экрана на хуй никому не нужные, с чудовищным акцентом, коверкая слова, рассказываете взахлеб, как здорово рубить капусту в Москве, лапать наших баб и жрать водку, и при этом, шалавы, искренне и праведно, до корчей, ненавидите русских! Мы вас трогали, уебки? Звали сюда?! — Юра делает решительный шаг к самому рослому телевизионщику. — Я маму твою — ебал! Понял, чурек!!!
Тут неожиданно, совсем несвойственно для гортанно-гордого джигита, по-бабьи высоко, подорванно вскрикивает стоящий позади всех телеоператор и, держась за правую ягодицу, в один прыжок заскакивает в мгновенно сгрудившуюся, перепуганную воробьиную стайку.
— Проба пера! — провозглашает вынырнувший с тыла Гридницкий… — Тоже хочу в журналисты… — В заведенной за ногу руке прячется закопченное на костерке лезвие ножа, бритвой наверх. Лицо побелевшее, узловатыми комками пошло. Плотно сжатых, гипсовых губ не видно. Глазные яблоки слились цветом с белками. Следующий раз пыранет уже не по-детски и не в смуглую попку, а насквозь глотку распахает — совсем не на полшишечки… Остальные пацаны тоже набычились. Ох, покромсают сейчас коллег…
— Откатили назад! Быстро!!! Отъебались от них, сказал! Заняться нечем?! Юра — остынь! Леха, ко мне… Ильяс! Задержанные — в твои расчеты. Под личную ответственность. Ну? что я сказал?!
Вовремя! По улице Оборонной слышится лязг гусениц. Продолжаем концерт по заявкам международной общественности…
День десятый. Держимся на честном слове. Камрады выкатили все, что есть, и тупо лупят в подвалы руин масштабной предвоенной новостройки прямой наводкой. Хвала небу, что хотя бы добровольческой пехоты тут нет, одни крипаки. Но зато — какими толпами!
Минометчики Штейнберга свалили вчера с остатками уцелевшей батареи. Петя приказ на отход еще два дня назад дал, да вот — уперлись мужики, на нас глядя. До последней мины стояли.
Мы шустрыми землеройками курсируем по дымящимся развалинам да полузаваленным подвалам от одной заложенной бетонными блоками и мешками с песком бойницы импровизированного ДОТа[150] до другой. По уцелевшим пока крышам и верхним этажам гостиницы, когда-то жилой девятиэтажки и остовов так и не достроенного квартала «Новый город» мартышками скачут мои снайперы и «корнетовцы».
Ильяс командует расчетами «ПТУР»: Максим Шкуратов с намертво прилепленной Кузнецовым погремухой «Малюта» вместе с Денисом Коваленко превратили район Острой Могилы в кладбище СОРовской бронетехники. Переименовывать потом придется. Антошины «ухальщики» ведут свой счет. Тройка Гирмана бьет редко, но метко, хотя и оглушены конкретно, тяжелее всех — от барабанных перепонок у пацанов, видимо, одно название осталось.
Мы приказ на отход получили два дня назад. Но отойти не можем физически. Полностью окружены. И Объединенные Силы свалили бы с радостью, но тоже не могут — свои расклады. И мы и они — заложники этой бойни.
Напомнило чем-то афганскую юность. Подобное я в своей жизни уже проходил, правда, в иной роли… В роли фашика.
* * *
Зарывшись в грязный снег носом, меж дувалами лежит Бродя. Из-под живота, смешавшись с раскисшей кизячной грязью, набежала добрячая лужа. Бушлат на пояснице вздыблен пучком вылезшей белой ваты. Блестки красного внутри придают ей сходство с каким-то цветком — словно прощаясь, распустилась огромная коробочка пурпурно-белого хлопка на спине нашего пулеметчика. Последний букет в жизни длиной в девятнадцать лет. Через полгода после Бродиных похорон умрет не пережившая смерть сына мать. Отец сопьется и, по словам его витебских земляков, пропадет с концами на очередной, непонятно какой, шабашке.
Нам, правда, сейчас не об убитом пацане надо думать-горевать, а смотреть, как бы самим отсюда ноги унести. Вляпались, нечего сказать, влезли по самое «не балуй». Ведь я же, дурака кусок, жопой чуял, что неспроста этот гребаный кишлачишко так затих, так прижух еще до нашего появления. Нет! Надо, надо доверять собственной чуйке.
Взводный тоже что-то уловил, но теперь уж точно не расскажет. Пока жив, но это — последние потуги молодого здорового организма. Пуля, явно пять сорок пять, прошив голову насквозь и нашинковав мозги в форшмак, как-то умудрилась не задеть жизненно важные центры. По-любому, не дотянуть мужику до вертушки. Не выжить. Да и смысл — выкарабкиваться?! Чтоб потом всю жизнь в коляске досиживать, прорастать овощем, рвя в клочья материно сердце? Она для этого его тутушкала, растила да в училище отправляла, чтобы любоваться, как он под себя ходит и слюни бульбами пускает? Да нет уж! пусть лучше героем похоронит. Как икону, на уголок тумбочки — напротив выпускной фотографии — открытую коробочку «Боевого Красного Знамени» поставит пред глазами. Чтоб — всегда… Матушка после него еще лет десять протянет. Правда, почернеет вся, сожмется. Буду ездить к нему домой, потом… раз десять, наверное, навещу старушку. И каждый приезд — словно самого в могилу опускают.
Третий наш «попандопало» сидит у дальней клуни — судя по обилию катышков овечьего «гамна», овен. Бедро прошито насквозь, кость, как впоследствии выяснится — в труху, нога — соплей болтается. Всю жизнь с третьей группой и инвалидной палочкой не расставаться Хмелику. Родина щедро отоварит героя: за вовремя брошенную в окно эфку[151] боевую медаль даст и однокомнатную квартиру в спальнике Салтовки[152].