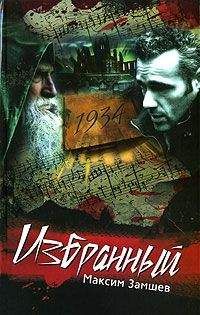Алексей подробно изложил все, что произошло с ним после звонка Белякова и отъезда в Париж вплоть до взрыва на кладбище Пер-Лашез. Геваро, слушая его, что-то рисовал ручкой на красной бумажной салфетке, лежавшей на столе. Закончив, Алексей посмотрел на Наташу; ее и без того большие глаза теперь стали еще больше, в них было столько заботы и сочувствия, что он схватил под столом ее руку и резко пожал. Пальцы девушки до боли сжали его.
– Повторите еще раз, что вам сказал Гийом Клеман на кладбище.
– Махно умер, рапсодия жива!
– Да. Не очень-то понятно. Расскажите мне подробнее о человеке, попросившем вас сделать снимок урны.
– Я не так много знаю о нем. Он отец одной моей знакомой, – Алексей поймал тревожный взгляд Наташи, – он историк, пишет книгу о Махно, хочет иметь нынешний, свежий, снимок в качестве иллюстрации. Вот и все. Обычное желание.
– А ваш родственник, Дмитрий Шелестов? Что вы о нем знаете?
– Я никогда его не видел. Это отец моей матери. Он погиб. В семье это культовая фигура. О нем рассказывают как о самом лучшем человеке на земле. Так, по крайней мере, я помню с детства.
– А где он воевал?
– Он погиб в последние дни войны. Во время берлинской операции…
– Да, сведения весьма обрывочные. Вам не кажется, что в этой истории слишком много Махно. Сгоревшая квартира Махно, урна Махно, «Махно умер, рапсодия жива».
– Не исключено совпадение. Хотя… Но у батьки уж точно ничего не спросишь… Кстати, нам еще не известна судьба Пьера Консанжа.
– Почему же… Мне она известна. Я видел, как он, прикрывая голову, бежал к своей машине. Потом уехал.
– Может быть, позвоним ему?
– Не стоит. Я думаю, он сейчас где-нибудь далеко, дрожит от страха и вряд ли подойдет к телефону. Он, как поведал мне Клетинье, давно работает на Орден, и, по всему, сейчас должен залечь как можно глубже. Думаю, его сейчас многие будут искать. Он совершил много странных поступков, которые придутся не по душе его хозяевам. Волею случая, он обязан был выполнять условия и Организации, и Ордена…
Ему сейчас не позавидуешь…
– Какова же его подлинная роль во всей этой истории?
– Если бы у нас были ответы на все вопросы…
– Я уверен, он все время пытался меня о чем-то предупредить.
– Расскажите подробнее…
– Он твердил, что это странный концерт и что какие-то люди заставили его сыграть его, поставив обязательным условием мое присутствие.
– Здесь все понятно. Вспомните рассказ Клетинье. На Консанжа вышли люди Организации. Им нужно было, чтобы Избранный появился в Париже. И они добились этого. Но они не поняли, что перед ними агент Ордена. Пьер испугался до смерти и неумело изобразил покушение на себя. Думал, что это выход…
– Выходит, он ослушался и тех и других? Тогда ему грозит серьезная опасность!
– Не большая, чем нам с вами. Не беспокойтесь о нем! У нас мало времени. Что вам еще говорил Пьер?
Алексей нахмурился. Чтобы вспомнить, ему надо было представить все в деталях.
– Вот еще что… Пьер рассказывал, что эти люди среди всех условий концерта особо выделили одно.
Он должен был на бис сыграть для меня двадцать четвертый каприс Паганини.
– Час от часу не легче! То Махно, то Паганини. По-моему, нам не обойтись без консультаций культуролога. Сами этой тайны мы не распутаем. Махно, Паганини, рапсодия, Избранный…
– Вы говорили, что Клетинье характеризовал Организацию как систему людей, Угадывателей, каждый из которых должен совершить некое усилие по угадыванию. Так?
– Да. Это еще одна загадка. Что они угадывают?
– А можем мы представить, что Гийом Клеман как раз такой Угадыватель?
– И что же он угадал?
– Меня!
– Перестаньте! В чем его угадывание?
– Махно мертв. Рапсодия жива… Надо разгадывать шифр.
Наташа до этого времени не позволила себе ни одной реплики. Но, видя некое замешательство мужчин, она оживилась:
– Я знаю одного человека, очень большого специалиста по Махно и вообще по русской истории двадцатого века. Есть смысл проконсультироваться с ним.
– И что мы скажем? Как объясним, что журналиста из России и французского полицейского интересует судьба анархиста-атамана? Я сказал про культуролога в шутку. Сожалею… – Геваро грустно улыбнулся девушке, как бы давая понять, что ее предложение прекрасно, но вряд ли осуществимо.
– Я согласна, но есть одно обстоятельство, – не уступала Наташа, – он очень любит меня, относится по-отечески. Первые годы моей жизни здесь он сильно помогал мне. Его зовут Николай Алексеевич Самсонов, он много лет директорствовал в библиотеке Тургенева. Может, попробуем?
В лице Геваро что-то поменялось.
– Боже мой, Николай Самсонов! Ведь я его знаю. Я в свое время расследовал дело о краже в библиотеке. Но я не думал, что он специалист по Махно! Он говорил мне, что его увлечение – музыка…
– И музыка тоже. Его вообще занимает все, что ему кажется важным для истории России, ее искусства, исторической судьбы. Он редкий человек!
– Ну что ж! Тогда поехали. Тем более что вариантов у нас почти не осталось. Да и долго оставаться на одном месте нам не стоило бы. – Геваро удостоил Наташу коротким благосклонным взглядом, но девушка не заметила этого.
Несколько лет назад Николай Алексеевич Самсонов покинул свой пост директора Тургеневской библиотеки, который занимал больше двадцати лет. Он уехал в Иври и жил в доме, доставшемся его жене, француженке Бриджит, по наследству от отца. Николай Алексеевич и Бриджит коротали старость в этом огромном каменном здании, грелись у камина, изредка принимали гостей, но в основном посвящали себя научным занятиям. Бриджит была известным в Париже искусствоведом от психологии и разрабатывала тему влияния музыкальных фраз на эмоциональное состояние человека. Николай Алексеевич всячески поощрял жену, его самого волновала эта тема, но он сейчас не мог оторваться от изучения чего-то очень важного и таинственного, чем не делился ни с кем, даже с близкими.
Когда Наташа позвонила ему и попросила принять ее вместе с Климовым и Геваро, Самсонов привычно поворчал, что ему не до приемов. Но все, кто знал Самсонова давно, сказали бы, что это ворчание ровным счетом ничего не означает. Старик любил гостей, а в Наташе просто души не чаял, втайне считая ее своей воспитанницей. Он ее встретил когда-то около Сакре-Кер. Она сидела на скамейке и смотрела на Париж, на серые провалы между крышами. Что-то настолько беззащитное, трогательное и детское мелькнуло в ее лице, что Николай Алексеевич поневоле остановился. Они разговорились, с удовольствием выяснив, что соотечественники. Самсонов взялся опекать ее, пока девушка, только попавшая в Париж, еще нуждалась в опеке. Но в последний год они виделись редко, Наташа встала на ноги, жила в бешеном ритме, а он затворничал в Иври.