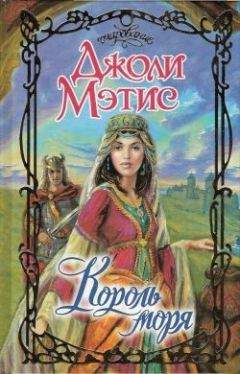матери по наволочке, которые друзья распороли и нацепили на себя на манер коротких плащей, и всё время, что Мориц был в тот год дома, они носились по окрестностям, поминутно вызывая друг друга на дуэль. Ксандер в роли оруженосца упоенно носился с ними и думал, что лучше не может быть ничего, благо ему тоже пообещали на следующий год шпагу. Но следующим летом Мориц приехал с головой, полной зорких следопытов, благородных и не очень индейцев, и с шапкой из енота, и эта игра пришлась Ксандеру куда больше по душе.
А потом Мориц погиб, самого Ксандера забрали далеко от родных мест, и к тому часу, когда младший сын дона Фернандо решил, что Ксандера надо учить фехтовать, шпаги у фламандца уже прочно ассоциировались не с весёлыми рисковыми галлами, с готовностью сражавшимися на поединках ради уроненного платочка прекрасной дамы или разрубая запутанные узлы интриг, а с ненавистными иберийцами.
Но отговорок дон Алехандро слушать не желал.
– Ты всё-таки принц, Ксандер, и есть вещи, которые тебе надо уметь, – объяснял он, терпеливо ставя в стойку своего ученика поневоле. – Тебе совсем не обязательно это любить и быть первым бретером Европы. Я же вот не очень-то люблю.
И улыбался так обезоруживающе, что возражения замирали на языке у Ксандера. И дело было даже не в улыбке только, а и в том, что дон Алехандро относился к нему, фламандцу, почти по-дружески, и учил его далеко не только фехтованию, а ещё куче куда более полезных вещей. Для начала он был врачом, и это от него Ксандер узнал, как можно наложить жгут, а как – повязку, как составить мазь от ожогов, которой он снабжал Беллу, и даже – как вернуть к жизни почти утонувшего: когда он оставил дом, для этих уроков он был ещё мал. А ещё он брал их с Беллой на море, на юг, и рассказывал им по памяти веселые стихи про Сида, сидя у костра на песке.
«Я же знаю, что любят мальчишки», – сказал он как-то в ответ на упрек дона Фернандо, и старый герцог впервые на памяти Ксандера отвел глаза.
Тогда-то Ксандер и узнал, что у дона Алехандро были жена и двое сыновей, уже совсем взрослых, но за год до того, как Ксандер оказался в Иберии, на их дом близ Севильи напали неведомые злодеи и убили всех.
– Вы отомстили, да? – спросил тогда Ксандер.
– Это не мое дело – отнимать жизнь даже у таких, – печально ответил тот. – Я не очень и умею, наверное. И потом, тут же главное – не то, кто эти люди, а то зло, которое в них живет, и которое они творят. Вот с ним я воюю, да. Просто по-своему.
В общем, отказать дону Алехандро было трудно, да и странного он хотел мало, так что урокам фехтования Ксандер подчинился. Уроки эти были даже не так уж несносны: фламандцу от природы достались крепкие ноги и ловкие руки, и спорт ему был приятен. Белла, которая тоже невесть каким образом добилась права держать шпагу – для строгой в традициях семьи Альба это было почти неслыханно, – сначала фыркала, а потом оценила возможность тренироваться с вассалом на пару, и ускользнуть от занятий стало и вовсе невозможно…
Мигель толкнул его так резко, что успел заодно и наступить на ногу – причём каблуком, со всей силы, и если бы это был кто угодно другой, Ксандер бы взвыл. Но это был ибериец, и Ксандер скорее бы язык себе откусил, чем выдал себя чем-то, кроме сдавленного ругательства – из тех, которых когда-то они с братом изрядно поднабрались у рыбаков и моряков в небольшом их порту, и, заслышав которые, кормилица Лотта каждый раз заставляла их вымыть рот с мылом.
Впрочем, может быть, ругательство вышло и не таким уж сдавленным – во всяком случае, Мигель его расслышал.
– А ну повтори! – заявил он на весь зал. – причём на человеческом языке!
– Господа, господа!
– Ребята, да что вы…
– Ксандер!
Ксандер улыбнулся прямо в смуглое лицо и повторил. Сначала как было, по-фламандски, а потом услужливо перевел. Мигель побагровел, хотя не он один, и заслуженно: во фразе «сын больной дурной болезнью испанской свиньи» указания на точного адресата не содержалось, поэтому принять это на свой счет могли при желании все определённого пола и национальности.
Они и приняли.
Сначала в ход пошли шпаги, но тут их бросились разнимать, кто-то кому-то въехал локтем в ухо, а ещё кто-то кому-то попал ногой… ну вовсе неудачно, и холодное оружие оказалось быстро забыто в пользу обыкновенной драки.
– А ну, прекратить!
Голос Му Гуан врезался в шум их свары как горячий нож в масло. Словами их учительница не ограничилась: она бесстрашно вступила в кучу-малу и растащила их – Ксандера, его иберийских противников, а также всех остальных присоединившихся – как сцепившихся псов.
– И подумать только, этим людям я дала в руки оружие, – отрезала она. – Так, кто тут зачинщики? Ван Страатен, Геваро-Торрес – вон с урока!
– Но профессор, – начал немного отдышавшийся Хуан.
Му Гуан не удостоила его и взглядом.
– Будете бегать вокруг главного корпуса. Всё оставшееся время. Вон!
***
После звеневшего сталью и гудевшего от защитных заклятий фехтовального зала – и даже шелестящего осенними листьями парка – очередной кабинет был почти оглушающе тихим. Шагнувший за порог первопроходцем Франц едва не наступил на чучело крокодила, лежавшее на пути, качнулся назад, и в дверях образовалась небольшая куча-мала, пока самые решительные выясняли, кому идти первым, а самые любопытные заглядывали им за плечо.
Наконец разобрались и стали заходить – аккуратно, чтобы не наступить на чучело и не снести что-нибудь. Последнее оказалось нелёгкой задачей: длинные полки вдоль стены и огромный, царивший над кабинетом стол уставляли разнообразные сосуды – бутылки, колбы, пробирки и трубочки самых разных цветов, наполненности и запыленности. Окна были распахнуты настежь – многие из учеников ежились – но в кабинете всё равно витал еле уловимый и таинственный запах. Адриано, принюхавшийся к нему особенно страстно, споткнулся-таки о чучело – и шарахнулся в сторону, когда зелёная страхолюдина вдруг разинула пасть и рванулась к нему.
– Спокойно, Рудольф.
Неожиданно оказавшийся живым крокодил послушно захлопнулся и с деловитой важностью прошествовал прочь, не обращая внимания на ноги, которые торопливо убирались с его пути. А тот, кто им столь непринуждённо распоряжался, оторвался от книги и выпрямился. Роста он был невысокого, высотой лба был обязан лысине, да