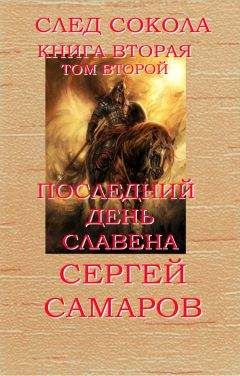В один из моментов, когда дорога, выйдя из голого по времени года, тоскливо и сумрачно смотрящегося осинника, привела в скалы, за которыми внезапно повернула в сторону, прямо на самом повороте встретился отряд франков, состоящий из рыцаря и десятка простых воинов. Дружинники, услышав возглас Бобрыни, поставили носилки на землю, и встали впереди них, выставив копья в боевое положение. Но франки с места не двинулись, и никак не проявляли агрессивности.
Сделал успокаивающий жест и сам жалтонес. Но не прокомментировал встречу. Он сам, ещё быстрее, чем раньше, пошёл к франкам. Рыцарь, оставив сопровождение на месте, подъехал к жалтонесу, и что-то сказал, не покидая седла. Разговор происходил далековато, и ветер относил слова, поэтому никто не понял, о чём они говорят. Рунальд, покопавшись под плащом, вытащил из под своей широкой одежды мешочек, и протянул рыцарю. Тот в ответ, словно товаром обмениваясь, протянул другой мешочек, в котором что-то звонко звякнуло. Голос переходящих из рук в руки золотых монет оказался более различимым, чем разговор двух человек, и словене вполне ясно уловили его. Но им было совсем не до местной торговли неизвестно чем. И потому, когда рыцарь развернул коня, и пустил его вскачь, жестом приказывая своему отряду следовать за собой, жалтонесу никто не задал ненужного вопроса. Кроме того, словене прекрасно понимали, что к таким странным личностям, как «пень с бородой» могут обращаться совершенно разные люди, от нищего до короля, и у всех бывают свои надобности, не похожие на надобности других.
Дальше дорога, обогнув несколько монолитных скал, превратилась в узкую тропу, уходящую в густой смешанный лес, и здесь носильщикам пришлось совсем туго. Чтобы поместиться с носилками на тропе, им пришлось встать не по сторонам длинных ручек, а внутри, и при этом наступать впередиидущему на пятки. Из-за неудобства менялись чаще, а потом вообще пошли парами, и стали ещё чаще меняться, чтобы сохранить тот же темп передвижения и не отставать от низкорослого, престарелого, но скорого на ногу жалтонеса. А того, казалось, совсем не беспокоил вопрос, отстанут носильщики от него или нет. Он шёл, как и раньше, словно куда-то опаздывал, и странно было видеть человека его возраста, способным к подобным переходам.
Сотник Бобрыня ничем не отличался от остальных дружинников, и носилки нёс точно так же, как все остальные, только в свободную смену даже на узкой тропе время от времени умудрялся заглянуть за занавеску.
Жалтонес свернул с тропы на вообще едва заметную петляющую тропку, словно специально выискивал такие пути, чтобы носилки не могли там пройти. Но дружинники не желали сажать княжича на коня, и не брезговали взмахнуть несколько раз мечом или топором, чтобы срубить мешающие передвижению молодые деревца или кусты.
Избушка открылась взгляду сразу, как только вышли на поляну, и даже как-то неожиданно, потому что густые кусты оборвались резко, как только закончилась мягкая земля, и начинались камни, по трещинам проросшие только высокой, но засохшей по времени года травой. Из таких камней состояла половина поляны, где устроил себе жилище жалтонес Рунальд. Вторая же половина была нормальной, как обычные лесные поляны. Это в самом деле была только избушка, а никак не дом и не изба. Маленькая, тесная, с печкой, которую топили «по-чёрному», то есть, дым выходил не через трубу, а через отверстие в крыше. Но одному человеку, если не ограничивать себя привычками к просторным помещениям, прожить здесь было вполне можно без стеснения. И даже двоим, если участь, что Рунальд именно в избушку привёз княжича Гостомысла.
Рачуйко и Светлан на руках внесли Гостомысла, который всё ещё так и не проснулся, в избушку. Следом вошёл Бобрыня, и сразу зашевелил основательным породистым носом. Чем здесь пахло, сказать точно было невозможно. Но пахло резко, остро, раздражающе всем сразу, чем может пахнуть жилище знатока ядов. И даже, казалось, неискоренимый запах дыма и копоти, естественный в каждом месте, где топят «по-чёрному», был не в состоянии эти запахи истребить и даже перебить.
– Вели своим людям печь истопить… Кладите княжича на печь… Сюда, сюда, к полдню головой, только к полдню[170]. Иначе отрава из него не выйдет, только в сон спрячется. И веник пихтовый под главу, а берёзовый под ноги. Разувайте его. Сапоги снимите. Вот так…
Бобрыня сделал знак рукой. Дружинники, что до этого стояли в дверях, заглядывая внутрь с беспокойным любопытством, тут же бросились исполнять приказание. Поленица сухих дров стояла рядом, под навесом из жердин, покрытых старыми хвойными лапами. Три охапки дров моментально оказались перед печью. И печь заполнили. Под дрова подложили бересту и сухую траву, высекли огонь.
– Выйдите все. Все, – сурово приказал Рунальд. – Дрова понадобятся, я позову кого.
– Сколько ждать-то? – поинтересовался Бобрыня.
– Три дня. Шалаш стройте. Там живите. К нам не суйтесь. Кто со стороны приедет, убейте, но за порог не пускайте, иначе княжич умрет.
Бобрыня ещё раз потянул носом, словно впитал в себя странные эти щекочущие ноздри запахи, глянул на княжича, и вышел первым. Он видел, как подчиняется жалтонесу воевода Веслав, и решил подчиняться этому странному ливу так же.
Уверенность лива вселяла в словен надежду…
В пригородное капище Перуна, самое известное сакральное место в окрестностях Русы, посадник Ворошила с воеводой Славером поехали в больших санях посадника, крытых плотным меховым пологом, хорошо защищающим от ветра, да и ночной мороз, уже без ветра, за этим пологом не казался таким кусачим.
– А кто, скажи-ка мне, мешает нам одним большим княжеством стать? – размышлял вслух Ворошила. – Только мы сами себе и мешаем. Я правильно говорю?
– Может быть, даже более правильно, чем ты сам думаешь… – скорее каким-то своим мыслям, чем собеседнику, ответил Славер. – Если, конечно, говоря «мы», ты не имеешь в голове только меня и себя, поскольку поди ж, наш голос, хотя и не самый тихий, всё ж не главный, и уж совсем не общий.
– Когда я говорю «мы», я говорю и про русов, и про словен, – отчего-то рассердившись, жёстко сказал посадник. – Мы сами и мешаем… Когда братья Славен и Рус строили свои города, они жили в дружбе и любви, в помощи, как то от богов братьям и заведено. И по братски делили всё. Это потом уже их зёрна – и мы с тобой, и Буривой с сыновьями, и Здравень с Блаженом, и остальные все – стали думать, отчего нам мало достаётся, а соседу, брату бывшему, откеле-то больше подваливает, обиды неправедные стали появляться, зависть…
– Это-то всё понятно без слов. Сила – это когда вместе… И куда за примером ходить?.. Того же Годослава возьми! Когда Бодричский союз существовал, кто был ему страшен? Никакие франки и саксы не посмели б на земли славянские посягнуть. А посягнули б, так и свои б потеряли, как раньше не раз случалось… Но каждому князю-брату своей власти захотелось. Свободу, или, скорее сказать, власть неответную больше дома своего возлюбили… Разделились вот, и получили только то, чего так надсадно добивались… И сами франки, посуди, кто такие были, пока их Карл под своё крыло не собрал? А никто… Разбойники, шакалы, воры, которых и моравы бивали, и обры[171] по полям с ратью гоняли, и даже какие-то лангобарды, о которых раньше всерьез никто не говорил, и те бивали много раз… А сейчас им никто слова против сказать не может, львами яростными стали. А всё оттого, что вместе…
– Неужели это всем непонятно! – в сердцах воскликнул Ворошила. – Это же так просто…
– Сложно другое, – согласился Славен. – Сложно человека найти, за которым пойдут. Добролюбно или по принуждению, как уж получится, но пойдут, и не откажут, когда тот велит. Это, пожалуй, труднее всего. Желающих много, а подходящих – не найти.
– Этого вот и хочет князь Здравень, – сказал посадник, но сказал неуверенно, словно сам сомневался в правомочности такого желания князя.
Славер понял причину его неуверенности, и сам её высказал:
– А за Здравенем не пойдут! За Буривоем лучше пошли бы, хотя и не все, за Войномиром пошли бы с охотой большей, а за Здравенем не пойдут…
– Буривой слишком много с нами воевал, за ним рушане быть не захотят, – Ворошила своё мнение высказал, выдавая его за мнение горожан. – Вой он знатный, а князь плохой… Для своего же княжества урона принёс больше, чем выгоды…
– А вот если бы он вовремя, когда в самой ярости был, Русу сжёг, и за ним пошли бы. За Буривоем тогда сила была великая, через берега Ильмень-море плескалось… За силой пошли бы, пусть поначалу и с принуждением… Вот ума бы ему поболе, край наш тогда крепко встал бы…
– Сейчас что об этом говорить… Радегаст[172] тогда Русу помиловал, отвёл мысли злые Буривоя в нужную сторону… А ты вот сожжёшь Славен, силу варяжскую выкажешь… За Здравенем, думаешь, не пойдут после этого?