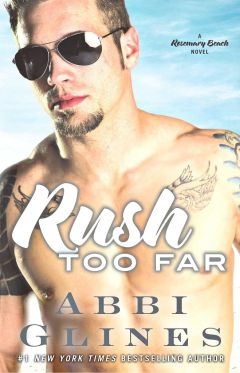Тяжело ступая по розовому зернистому снегу – это вызолоченные закатные тучи добавили ему колеру – Бат Иогала пробирался вверх по горной тропе.
Снег шел давно, да такой обильный, что тропа едва угадывалась. Если он потеряет дорогу и не найдет себе убежище до темноты, ночевать придется в сугробе.
Мысль о таком ночлеге сообщала движениям Бата живость, в его случае тем более примечательную, что не отдыхал он с самого утра.
С механической монотонностью, по которой всегда отличишь опытного ходока, двигались ноги Бата, обутые в высокие охотничьи сапоги на собачьем меху.
За его спиной ворочался лук. На поясе отсиживались в ножнах с фатоватыми эмалевыми накладками два кривых ножа – длинный и широкий.
Ох и страшен же бывал Бат, когда сжимал левой Чамбалу, так звали долговязый нож, а правой Кую, так звали коротышку, оскаливался по-боевому и, надувши живот, кричал удалое «йе-йе-ги-и-и»!
Даже в медвежьем сердце возбуждал страх Бат Иогала своим криком.
Двадцать шесть медвежьих шкур, отданных Батом перекупщикам жаркого и ласкового товару в прошлый сезон, были лучшим тому подтверждением. Со зверьем потише да пониже разговор у Бата выходил совсем уж коротким: шкуру – чулком, мясо – собакам, и домой, брагу пьянствовать.
Бат был потомственным зверовщиком. И, конечно, фамилию Иогала он присвоил себе против правил. Ведь смердам фамилии не положены. Да и не нужны.
Однажды на постоялом дворе он услышал от бродячего песняра сказ о Бате Иогале, тиране Ирвера.
Тиран «имел трех сыновей и каждому из них нанес намеренно увечье» – мелодично гнусил песняр. Одного сына – ослепил, другого – оскопил, третьему проткнул спицей барабанные перепонки. Чтобы сыновья не заносились в гордыне, от которой до междоусобицы и раздела царства рукой подать. Но, сплоченные увечьями, держались друг друга, управляли царством сообща и несли бремя власти в смирении и взаимной любви, пусть и принудительной.
Бату очень понравилась эта история: не столько драматургией, сколько пафосом насаждения своей тиранической воли. Растроганный Бат даже подарил песняру свои енотовые рукавицы. Носи, мол, береги пальцы.
С тех пор Бат решил назваться Иогалой – и звучит внушительно, и, как говорится, «со значением».
Позднее, после одной особенно удачной охоты, когда его сума отяжелела от рябчиков, а конь, запряженный в волокуши, едва ступал – там холодели две кабарги, козюля и лиса – Бат подвел под свое прозвище теорию.
«Я над ними тиран, над этими зверями. Точно так же, как тот Иогала тиран был над Ирвером.»
Тучи, чреватые пудами, тысячами пудов липкого снега, топтали Птичью долину.
Вершины и высокие перевалы было не разглядеть – там, где рисовал снежные шапки и шлемы солнечный день, теперь обманывала сизая, с черными проточинами, фата-моргана.
Правда, облака там, вверху, были другими – поджарыми, ломкими, быстрыми.
Они скоро менялись местами, тревожно слоились и деликатно сталкивались. Где-то вдалеке, в стороне вершины с игривым названием Поцелуйная, неслышно блеснула молния.
Бат насупился и недовольно причмокнул. Он вырос в горах и знал: когда такие тучи, когда наверху теплынь и молнии – жди сходня, лавины.
«Что это придумала молодая княжна? Какой осел промышляет в начале весны, – тем более барса? Ведь течка у маток! Уходят они высоко, дерганые становятся, об этом деле только и думают. И дерутся в охотку – страшно бьют, лапой рвут животы собакам, давят их, как кутят… Княжне все хихоньки-хахоньки, а мне тут шуруй…»
Впрочем, днем раньше Бат был на этот предмет другого мнения.
За живого барса обещали сто монет серебром – как за десять отменных медвежьих шкур.
Тут было ради чего стараться. Бат любил серебро – не столько как послушливую субстанцию, что быстро превращается во вкусную еду и блудливых женщин, сколько как объект художественный. Серебряные кругляши с бровастой императрицей не давали покоя безымянному лилипуту, что живет в каждом человечьем глазе и по членам которого от раствора алых губ иной светлокудрой красавицы или от солнечного покоя прекрасного пейзажа пробегает экстатическая судорога.
Добывать зверей живыми Бат умел и любил. Не один зверинец был заселен его трудами. И держатели зверинцев – рангом от барона и выше – оказывали Бату нечто вроде почета.
Да, в ловле этой был для Бата свой азарт. Совладать с живым барсом – вот это дерзновение! Его и убить-то непросто, как упадет на спину, как пустится лапами отбивать, живучий, быстрый…
Но как раз на такой случай у Бата была сеть. Вот упадет «кошуратик» на спину, вот пустится лапами отбивать – а он его сетью-то и накроет!
Главное – не мешкая присобрать ее, спеленать усатого негодника. И за веревку его, волоком вниз, по снегу легко пойдет, может разве шерсть на боках пострадает. Ну да шерсть – не уши, отрастет лучше прежней, на княжеском-то харче.
Похвалиться поимкой живого барса Бат не мог. Но вот матушку-рысь ему добывать живой случалось. Барс, рысь, какая разница?
Было и еще одно обстоятельство, которое распаляло Бата Иогалу.
Несчастного барса этого добывали для зверинца княжны уже второй год. И пасти ставили, и капканы, и загоном теснили. Приманки, напитанные снотворным зельем, раскидывали по звериным тропам.
Без толку.
«Ну, с приманками все ясно. Будет барс тебе упадь есть, как же! Разбежался! Ему подавай свежину!» А вот с остальным ясности было меньше.
Сказывали, будто четырежды загонщики уже почти держали голубу за уши. И четырежды он уходил.
«Хитрый очень, осторожный! А может, кто-то ему уйти помогает… Может, духи гор, а может наш брат, человек…» – пожимали плечами очевидцы.
«Да он и не барс никакой, но оборотень! Уж больно часто след рвется, словно под землю он уходит… А случается, вдруг человечий след невесть откуда на тропе… А потом снова кошкин…» – добавляли другие.
Словом, небывальщины Бат наслушался за три дня – на год хватит пересказывать.
Сначала он высмеивал пустобрехов, потом рукой махнул.
Плохой охотник он чем от хорошего отличается? Хороший – с трофеем идет. Плохой – с рассказом.
Призрак тропы привел Бата к подножию серой скальной твердыни, такой крутой, что казалось: она вот-вот рухнет, прямо на голову тебе.
Бат пошел вдоль, между делом размышляя над неудачливой своей долей. Вниз – опасно и поздно. Вверх – бессмысленно. Крыши над головой нет, как и конца тропе. Сил, дров, спасительных мыслей – тоже.
Нет, не впервой было Бату терпеть лишения, ночевать на протопленной собственным теплым животом прогалине, укрывшись соленым от пота тулупом.