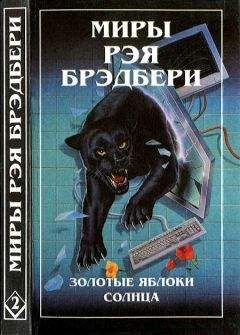Подплыла к роднику Лихо, ручищами за каменный берег схватилась, подбежал к роднику Коловул, над волшебной водою склонился: что за диво такое? В роднике — мальчик не мальчик, существо, пасть с зубами, из пасти двойной язык то и дело проглядывает. Глазам не поверили близнецы, на мать оба смотрят.
— Брат у вас народился! От Велеса и земной женщины — младший брат! Пойдешь, Коловул, к людям! Из дома мальчишку выманишь! И к Велесу в топь отведешь!
— А зачем ему к Велесу? — это Лихо спросила, из воды выбираясь.
Помедлила Мокошь, потом улыбнулась:
— В небесном саду жить хочешь?
— Ну?
— Вот и присматривай за своим младшим братцем. Он когда подрастет, о, он и тебя, и всех нас порадует! — и к водопаду попятилась.
Хотели у нее близнецы еще спросить, а только не любила их мать лишних расспросов. Вошла в водопад и исчезла в нем, будто сама водой стала. Тогда кинулись близнецы к роднику, братца своего рассмотреть получше, а только так, где родник был, одна трещина в камне осталась.
— Хочешь жить в небесном саду? — Лихо у брата спросила.
Коловул подумал, кивнул:
— Хочу. К нему луна близко, — а потом подумал еще: — А только ведь мать все равно выть не даст!
Разбежался и прыгнул в озеро. И в нем за сверкающей, быстрой рыбой погнался. А Лихо отжала подол и сказала:
— Нет, в небесном саду хорошо! Уж до того хорошо, что и выть не захочешь.
Кто спал в эту ночь, кто не спал, а перед самым рассветом, как тому и положено быть, все водою омылись и на крыши свои взошли. Общая это забота — Дажьбога будить. А то как заспится, забудется под землею Дажьбог да и не погонит белых своих коней на небо. Не понесут белые кони золотую ладью. Не усядется в ней Дажьбог и своим светоносным щитом землю не озарит. Нельзя допустить такое! Самым первым на крышу взбирается князь Родовит, кланяется небольшому, из дерева вырезанному Дажьбогу, сердцем и голосом просит:
— Пробудись, отче, поднимись, Дажьбог!
И люди на крышах своих домов, все как один, руки протягивают к засветлевшему краю неба:
— Если не мы, кто тебя разбудит? Если не ты, кто вдохнет в нас силу?
И, расслышав их громогласную просьбу, торопит солнечный бог своих белых коней. Все светлее делается на небе. А только людям еще немного тревожно. Пока не увидят они каймы сверкающего щита, так и будут руки с мольбою тянуть:
— Пробудись, отче! Поднимись, Дажьбог!
И вот наконец первый луч над землею увидят, радостью озарятся и закричат:
— А-а-у! Дажь! А-а-у! Бог!
От этих криков даже птицы в деревьях смолкают. Даже птицам их радость кажется мимолетной рядом с истинной, человеческой, чудотворной.
Как могли не проснуться от неистовых этих криков дети — Кащей и Ягда? Увидел с крыши их Родовит, брови нахмурил. Мальчик в клетке куриной спал, девочка — на траве, возле клетки. И во сне они почему-то за руки держались.
И змеёныш это тоже увидел с крыльца. И вокруг в его пасти огонь заиграл.
И Удал это тоже увидел, он в это время в княжеский двор входил вместе с Калиной, с внуком старого гончара. Калина сегодня был ночью в дозоре. Как вошел Удал, сразу крикнул:
— Я забираю степняшку!
Подошел Родовит к краю крыши, сказал:
— Добра тебе в это утро, Удал! Кажется, я еще у людей своих князь!
Тут и дети от их голосов проснулись. Крикнул дочери Родовит:
— И тебе добра, Ягодка! А теперь иди в дом!
А девочка сонной рукой волосы со лба убрала:
— Меня Ягдой зовут. Все запомнили?
А Калина с тревогой сказал:
— Князь-отец, ночью к нам степняки подходили! Близко! Падаль в поле искали.
И Удал подхватил:
— Важный, видно, мальчишка. Если они, за мертвым за ним вернуться не побоялись! — и в клетку руку просунул, за волосы Кащея схватил. — Мой он пленник! Отдай его мне!
Тут и Жар с крыльца закричал:
— Степняшку на падаль!
А Ягда подбежала к Удалу:
— Когда я буду княгиней, я посажу тебя в клетку! И тоже за волосы стану таскать!
Подумал Удал немного, решил смирением князя пронять, рухнул посреди двора на колени, голову опустил. И Калина тоже с ним рядом.
Вышел тут Родовит на крыльцо, посохом громыхнул о деревянные доски:
— Сам пойдешь к степнякам, Удал?
Ободрился Удал:
— Вон Калина со мной пойдет!
Горячо закивал Калина. Но только снова ударил князь посохом о крыльцо:
— Нет, — сказал. — Не пущу! Пока что я у людей моих князь! Пока что мне за их жизни перед богами ответ держать! И Веснуху не возвратите! И сами домой не вернетесь! — развернулся и в дом вошел.
Выдохнула Ягда, заулыбалась. Увидел ее улыбку Кащей, подумал: видимо, теперь по-хорошему его судьба разрешится.
А Жар, на эту их переглядку глядя, ноздри чешуйчатые раздвинул:
— Когда я буду князь, — и вниз с крыльца побежал, к клетке приблизился. — Когда я буду князь! — это он для Ягды одной кричал, а пламя из пасти его вылетало: — Буду тебя, тебя в клетке держать! За то, что ты степняков, врагов любишь! Ты!.. — и до того разошелся уже — целый столб пламени изрыгнул.
Занялась деревянная клетка — как соломинка в засуху занялась. Шарахнулся в клетке Кащей, а цепь его далеко не пускает. Вскрикнула Ягда:
— Мамушка! Ключ! Скорей!
Удал с Калиной к бадье с водой бросились, в которой Лада обычно гадала. Подтащили к клетке бадью, стали огонь заливать. Тут и Мамушка с ключом прибежала. А только из клетки дым, чад валит, близко не подойдешь.
Подбежал Удал, выхватил у Мамушки ключ — в самое пекло полез. А когда мальчишку из пламени вынул, когда его легкое тело опять на своих руках ощутил — как вчера, когда в поле его вязал, — только нет, не по-вчерашнему вовсе посмотрел на него, осторожно на траву положил, крикнул Ягде:
— Ладу зови. Вон как пожегся.
А у Ягды голос пропал. И все силы пропали. Села рядом в траву, только слезы катятся по лицу. А когда вернулся к ней голос, спросила:
— Он живой?
— Он живучий! — и опять Удал его на руки подхватил, сам решил к Ладе в дом отнести.
А Жар уже далеко был от княжеского двора. Через Селище змееныш бежал, а куда бежал, сам не знал. Знал одно: если степняшка сгорел, ему, Жару, не поздоровится. Засадит его в холодный, темный погреб отец. А уж сердобольная Мамушка с Ладой какой-нибудь наговор совершат и порчу на него наведут… И чтобы опередить их, чтобы от них защититься, выбежал в поле Жар и к кургану княгини Лиски свернул.
Добежал до кургана, припал к нему ухом, послушал, не заговорит ли с ним мать первой, — нет, молчала земля, тогда Жар начал так: