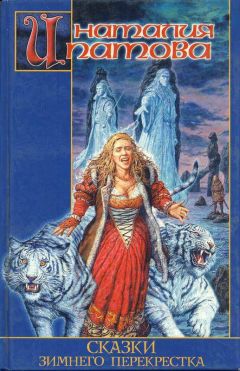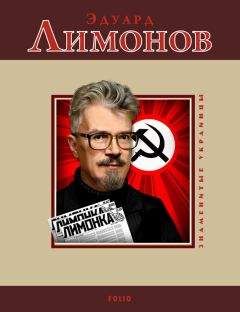— Подснежники, — сказала она. — Какая прелесть!
— Это от милорда Перегрина, — растерянно сказал я. — Имею честь говорить с госпожой Мидори?
Нисан, как я могу не узнать тебя в цветении твоих садов? Глядя на нее, я понял всю глубину неловкости юного лорда Марта, для которого она была той, о ком не говорят дурно. Я бы и сам в тринадцать лет боялся лишний раз посмотреть в ее сторону. Она была красавица. Нежная, как цветок сливы. Черные волосы, гладкие и тяжелые, подстриженные в кружок, узкое продолговатое личико — дынное семечко, как говорят в Японии, когда хотят определить эталон красоты. Нижнее кимоно ее было черного цвета, и от него виднелись только воротничок, часть грудки и манжеты, плотно облегающие запястье. А верхнее струилось серебристым водопадом и пышными складками, как волнами, разливалось по всей поверхности пола за исключением места, где топтался я. В талии ее перетягивал черный шелковый пояс с огромным бантом на спине, похожим на бабочку «мертвая голова». Белые стены, черные рамы, мечущаяся по стене тень: вся сцена была решена в графическом ключе. На стене висело традиционное какэмоно — полотнище белого шелка с иероглифами стихотворения, написанными вертикально. Госпожа Мидори сидела на пятках, окруженная озерцом своего кимоно и множеством бонсай в глиняных горшках и плошках. В отличие от прошлых моих хозяев, исключая, разумеется, неразговорчивого непоседу Января, она была занята делом. Маленькими ножницами она вырезала из цветной бумаги цветочные лепестки. Чуть шелестящий бумажный поток струился из-под ее рук, скапливаясь в складках кимоно. Привет тебе, Флореаль — пора цветения! Она трудилась, как пчелка, и продолжала делать это на протяжении всего времени, пока мы вели с ней беседу.
— У меня много работы, — извиняясь, сказала она. И, наблюдая за порханием ее проворных пальчиков с длинными розовыми ногтями, я готов был впасть в транс. Может, я так и сделал. Не помню. Она зачаровала меня в один миг.
— Ах, — воскликнула она, когда, сидя напротив нее, я поведал ей свою историю, — как это неосторожно со стороны Норны! Но я не возьмусь ее осуждать. Обладая таким могуществом, должно быть, очень трудно удержаться от искушения пользоваться им. Но я не сомневаюсь, что она благополучно вернет вас обратно и, возможно, возместит вам моральный ущерб.
Моя бы воля, я никуда бы отсюда не уходил, следя, как бумажные лепестки усеивают ветви бонсай. Я не стал ей говорить об отношении к ней Перегрина: в конце концов, если не дура, то и сама знает, а она производила впечатление умненькой девочки… тьфу, богини! Однако она сама о нем заговорила.
— Главное несчастье лорда Марта в том, — сказала она с тем оттенком превосходства, какой встречается у старших девочек, — что он не знает собственных достоинств и стыдится своих недостатков. А потому он существует в образе, который самому ему не слишком по вкусу. К примеру, тот же Имант прекрасно осведомлен о своих недостатках, и настолько свободно с ними обращается, что они превратились у него едва ли не в положительные качества. Поэтому он умеет быть счастливым. Так и получается, что Перегрин ученее, а Имант — умнее. И пока это так, бедняга Март обречен на одиночество.
— Кто такой Имант? — напрямик спросил я ее. — Госпожа Мидори, буквально в каждом секторе мне называли это имя. Признаюсь, я уже напуган.
— Имант вовсе не страшный, — возразила она с улыбкой. — Вы скоро повстречаетесь с ним. Уже скоро. Если Перегрин завидует ему, то в этом он солидарен со всей мужской половиной человечества. Что же до женской… впрочем, вы все увидите сами.
Маленькая хозяйка апреля говорила, будто ручеек журчал, а лепестки летели из-под ее пальчиков, осыпая сады бонсай. Кажется, я уже чувствовал аромат цветущих деревьев.
— Вы только не позволяйте Мэй втянуть вас в какую-нибудь опасную авантюру, — посоветовала она, и я слушал и слушал ее, но слышал, наверное, даже не слова, а звук ее голоса, особенности ее речи. Право, раньше я никогда не общался с японками. До меня даже дошло наконец, почему такая красота, как цветущая вишня, символизирует у них смерть. Просто это единственное, что следует уносить с собой, созерцанием освежая душу. Как Париж. Увидеть и умереть.
— Мэй совсем не злые, но они такие… неуправляемые. Для них только игра имеет смысл, а их игры порой просто… опасны для здоровья. Во всяком случае, чем быстрее вы проскочите их сектор, тем целее будете. Я не слишком вас напугала?
— Нет, госпожа, — сказал я, чувствуя на своем лице идиотскую блаженную улыбку.
— Это хорошо. Предупреждение сделано, а излишний преждевременный страх цепенит гибкость ума и понижает способность приспосабливаться к обстоятельствам. Еще раз прошу вас отнестись к Мэй со всем присущим вам здравым смыслом.
Глядя на нее, я сомневался, есть ли он у меня вообще. Отложив ножнички, она взяла листок бумаги в тетрадную линейку и, смотря мне в глаза, стала складывать из нее какую-то фигурку. Когда она закончила, я рассмеялся. На ее узкой ладошке лежал бумажный голубь. Я и сам в детстве выпустил таких немало.
Потом она вспорхнула на ноги, держа спинку прямо, вся искусственная, как фарфоровая кукла. Водопад разноцветных лепестков, скопившихся в рукавах, обрушился на бонсай, окутав их словно облаком мыльной пены. Перекинув через руку длинную полу своего кимоно, Апрель несколько раз шагнула ножками в белых носочках, снова опустилась на колени возле стенной рамы и сдвинула ее, открывая выход на терраску и в крошечный сад, через который несся бурлящий вешний поток. По его краю из ржавой прошлогодней травы глазела родная мать-и-мачеха. Тень, метавшаяся по стене, оказалась от яблоневой ветки.
— Идите по мостику, — велела госпожа Мидори, указывая на пересекавший поток узенький дощатый мостик, явно рассчитанный на габариты Дюймовочки. — Когда дойдете до середины, — до того места, где висит радуга, видите? — пустите голубя и окажетесь в мае.
— Благодарю вас, госпожа.
— Не стоит. Я была рада помочь вам.
В мою память врезалась прелестная графическая миниатюра: девушка в кимоно, стоящая на коленях у двери чайного домика. Яблоневая ветвь вдоль стены. Усыпанные цветом бонсай. Ах, как мне жаль было Перегрина! Я подставил ладонь ветерку, тот сорвал с нее голубя, качнувшего крылами, я ускорил шаг ему вслед… споткнулся, покатился по доскам настила, потом по зеленой траве и сообразил, что оказался в мае.
Я лежал, уткнувшись носом в изумительно свежую траву, солнце пекло мне спину, и под январским свитером я обливался самым жарким потом. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Затем я слегка приподнял голову, чтобы оценить обстановку.