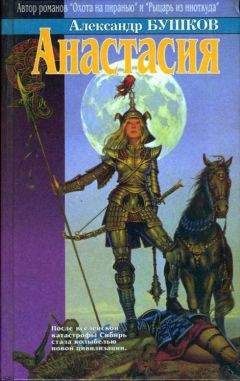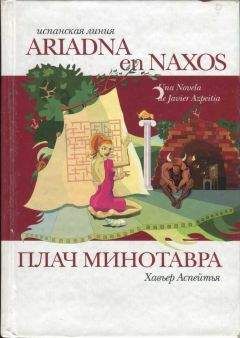– Приветствую тебя, – сказала она.
– И я тебя приветствую, светлая госпожа, – сказал я, поклонившись с несколько неопределенной вежливостью – просто как высокородной. Я ведь, согласно правилам игры, не мог знать, кто она такая, а на людях владыки Крита появляются нечасто. – Госпожа, соблаговоли объяснить, откуда такая напасть на честного обывателя? Схватили, потащили, слова не дали сказать, да вдобавок – по загривку… Обыватель – опора трона, не следовало бы так хамски с ним обращаться.
Я увидел в ее глазах интерес и любопытство.
– Успокойся, это не арест. Ведь ты толкователь?
– Да, – сказал я, сохраняя на лице испуганно–восхищенное выражение. – Клянусь священным петухом. Я – Рино с острова Крит, по воле богов толкую сны, беру недорого, есть рекомендации и хвалебные отзывы от влиятельных лиц. Они у меня дома, прикажешь послать?
– Не нужно, я верю. Объясни, почему ты постоянно подчеркиваешь свое критское происхождение? Говорят, у тебя и на вывеске так написано. Я не помню, чтобы так делал еще кто–нибудь.
– Это своего рода дополнительная рекомендация, – сказал я. – Конечно, я гадаю и иноземцам, если они ко мне обращаются, не делаю различий – работа такая. Но большинство моей клиентуры составляют критяне, и они должны знать, что свои заботы несут к земляку, что их выслушает и им поможет соотечественник, а не жалкий заезжий шарлатан, который и говорит–то с отвратным акцентом. Я патриот, светлая госпожа, чем и горжусь.
– Я так и думала – что–то в этом роде… Ты не удивился, когда тебя вместо тюрьмы доставили во дворец?
– Ты считаешь, что я более достоин тюрьмы? – спросил я невинно.
– Как знать, как знать, – небрежно отмахнулась она. – Так ты не удивлен?
– Я разучился удивляться жизни, в ней так много странного, – сказал я. – Я не хочу показаться нескромным, но не понадобятся ли мои услуги?
– Ты угадал. По ряду причин к тебе не могли обратиться открыто.
– Кому же я нужен?
– Я царица Крита.
– О! – сказал я и взглянул еще испуганнее и восхищеннее. – Госпожа моя высокая…
Женщина остается женщиной и в глубине души всегда млеет, когда на нее смотрят глазами вожделеющего самца. В особенности такая, как эта. Так что я поумерил испуг и откровенно стал раздевать ее глазами – пусть считает меня более понятным, следующим все тем же стереотипам. Не помешает. Конечно, не следует и переигрывать, она должна увидеть во мне не просто рядового ловкого интригана: если она посчитает, что я не оправдал ее надежд, живым отсюда не выбраться.
– Ты можешь сесть.
– Не смею, – сказал я, – испытываю верноподданнический трепет, высокая госпожа.
Она сдвинула брови, но в голосе, кроме гнева, был все тот же интерес:
– Ты надо мной насмехаешься?
– Я бы никогда не посмел. Просто я не стесняюсь сказать вслух то, что твои царедворцы выражают раболепно согнутыми спинами и преданными взглядами. Суть одна, не правда ли? Только они не умеют пресмыкаться с чувством собственного достоинства, а я умею. Вот и вся разница.
– Вот как? Все же садись, разговор у нас будет долгий. (Я сел.) Так вот. Ты предсказал Беренике, тетке моего повара, смерть одного ее давнего врага. И он умер. На дороге из Кносса в Аркалохори его убили разбойники.
– Намерения богов мне порой открыты, – сказал я. – А разбойники, увы, еще не перевелись и в нашем достославном государстве.
– Далее. Зерноторговец Поллий спрашивал у тебя, удастся ли ему обойти своего соперника – предстоял выгодный заказ, и коринфяне колебались, не зная, кому из двоих торговцев отдать предпочтение.
– Но достопочтенный Поллий увидел поистине вещий сон, – сказал я.
– Да, амбары его соперника сгорели. Все. В одну ночь.
– Боги властны и над богатыми зерноторговцами, – сказал я и подумал: «Бедный Каро, как мне будет не хватать тебя».
– Кроме этих случаев, ты совершенно правильно истолковал сны почтенного Павсания, золотых дел мастера Гикесия и многих других, не правда ли?
Слишком много они обо мне знали, может быть, почти все, а для этого нужно было наблюдать за мной не неделю и не месяц – простым копанием в моем прошлом, проведенном в краткие сроки, такой осведомленности не объяснишь. Примем к сведению и запомним.
– Предсказывать будущее нелегко, – сказал я. – Не у каждого есть к тому талант, но коль у кого–то он есть – для этого человека не существует тайн.
– Тогда ты можешь истолковать и мой сон?
– Как только ты мне о нем расскажешь.
Она колебалась, и я прекрасно понимал почему. Рассказывать постороннему человеку о своем позоре даже намеками, рассчитанными на умных людей недомолвками и иносказаниями было для нее тягостно. Как ни нужен я ей, как твердо ни решила она извести Минотавра, не бывает абсолютно порочных женщин. Но и отступить она не могла. Я терпеливо ждал.
Ее взгляд рыскал по комнате, задерживаясь на дорогих предметах: тяжелые шторы из золотой парчи, небрежно брошенное на столик ожерелье из крупных рубинов, огромный безвкусный золотой кувшин с вычеканенными сатирами, лапающими нимф, серебряный тартесский светильник, имеющий явное сходство с фаллосом…
Знакомая роскошь должна была возвратить уверенность, внушить, что ничего особенного не происходит, – она в своих покоях, госпожа, дающая ничтожному слуге приказ без промедления и на совесть исполнить пустяковое поручение. Только и всего. Никаких тайн, доверенных низкорожденному, никаких тайн, ставящих нас с ней на одну доску. Забыть, что мы с ней совершаем государственную измену, ибо Минотавр – ценнейшее достояние Миноса, а следовательно, и Крита. Но я постараюсь поставить нас на одну доску.
– Итак, госпожа? – спросил я.
– Меня душит змея, – сказала она. – Вот уже много ночей подряд. Черная, скользкая, она проникает сквозь запертую дверь, обвивается вокруг шеи и душит. И все время смотрит мне в глаза. Все время смотрит… Мне страшно, я просыпаюсь в холодном поту и больше не могу уже заснуть. Что мне хотят сказать этим боги?
– Змея – это совесть, – сказал я. – Наша жизнь порой сумбурна и не всегда благонравна, и очень часто, особенно в молодости, мы живем одним днем. Желания подменяют здравый смысл, страсть… (Я посмотрел ей в глаза. Она отвернулась.) Страсть заставляет забыть об осторожности и возможных последствиях. Человек слаб, в молодости легко быть безрассудным и стремиться удовлетворять все свои желания…
– Ты это осуждаешь?
– Отнюдь. Не вижу ни удовольствия, ни необходимости в том, чтобы клеймить чьи–то пороки. Мое дело – слушать и исцелять души.
– Как же исцелить мой недуг? – спросила она, и ей казалось, что она надежно скрыла от меня свое волнение.