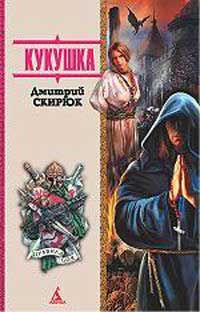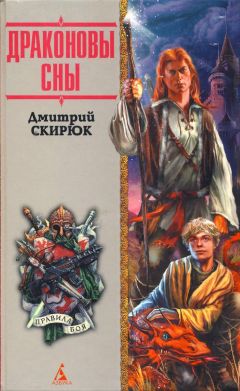Андерсон растерялся, но среагировал молниеносно.
— Ах ты, вот так встреча! — воскликнул он и хлопнул в ладоши. Глаза его заблестели восторженным удивлением. — Лис! Не ожидал... Так ты и с этим парнем был накоротке? Мне положительно везёт! И куда ты держишь путь?
Иоахим набычился. Прошёлся пятернёй по волосам.
— Тебе нас не найти, — сказал он. — Этот человек тебе не поможет: я просто не хочу с тобой разговаривать. Ни так, ни через сны.
— О, теперь мне разговоры не нужны, мне достаточно просто идти за тобой... Ах, удача, вот удача! Девчонка ещё при тебе? — Иоахим не ответил, лишь буравил собеседника колючим взглядом. — Значит, при тебе... — удостоверился Ян Андерсон. — Отлично! Превосходно! Продолжай идти. Мы встретимся, и очень скоро, обещаю.
— Если это случится, молись, чтоб я тебя тогда не увидал! — выделяя каждое слово, отчеканил Иоахим Шнырь, или тот, кто говорил его устами, в последний раз посмотрел на Андерсона этим чужим взглядом, затем в нём будто задули свечу — он вздрогнул, обмяк, глаза его закатились, руки повисли, и рыжий парень ничком рухнул на стол.
Стало тихо. Шнырь лежал неподвижно — уткнулся щекой в лужу пролитого вина и храпел, как записной пьянчуга. Андерсон о чём-то размышлял, подперев одной рукой голову и вертя в другой деревянную вилку.
— Э-э... господин Андерсон? — вдруг услышал он и поднял голову.
Кабатчик и усач стояли перед ним едва ли не навытяжку.
— В чём дело? — нахмурился он, переводя взгляд с одного на другого. — Что вам угодно?
— Меня зовут Вольдемар, — сказал кабатчик, комкая передник. — Вольдемар Гоппе.
— Йозеф Шталлен, — без предисловий представился второй и разгладил усы. — Здесь меня зовут Иоос.
— И что?
— Мы видели, что вы сделали с этим парнем, — вкрадчиво сказал кабатчик. — Видели и поняли, что вы сведущи в волшбе. Мы давно вас ждали.
— Меня? Я всё равно не понимаю... Зачем?
— Вы слыхали про такого господина Штауфера из Вестфалии? Мы были его помощниками.
— Что за чушь! Его помощниками были Мельхиор Гопман и Ян Трайпмакер.
— Точно так, — сказал Шталлен. — Мюнстер!
— Мюнстер! — картаво повторил за ним кабатчик Гоппе. И оба вскинули сжатые кулаки.
Андерсон ничего не ответил, но было видно, что он потрясён. На лице его с калейдоскопической быстротой сменялись выражения изумления, задумчивости и тревоги, будто он вёл невидимый внутренний спор сам с собою. Правая рука его подрагивала, левая вертела вилку. Два приятеля терпеливо ждали. Шнырь храпел.
— Штауфер, мой верный Штауфер... — сказал наконец толстяк. Голос его подрагивал. — Я помню его. Он был сильным магом, умел обращаться в мышь, а также многое другое... Однако и это не спасло его от инквизиции.
— Осмелюсь заметить, спасло, — возразил Вольдемар. — От инквизиции — спасло.
— Но не спасло от разъярённых горожан, — резонно заметил Шталлен, сделал шаг вперёд и щёлкнул каблуками. — Мы всецело к вашим услугам, господин маг.
— И к вашим, ваше величество, — сказал кабатчик и тоже отвесил поклон.
...Когда Шнырь пришёл в себя, то обнаружил перед собой опрокинутую кружку с отломанной ручкой, а в руках — ту самую ручку и флорин, зажатый так, что на ладони сделался порез. В голове был кавардак. Он ничего не помнил из того, что говорил и делал после поднесённой кружки: три глотка, флорин в зубах, а дальше — бум! — и темнота.
Господин Андерсон смотрел на него очень-очень странно.
— Голова не кружится? — с неожиданной заботой осведомился он.
— Н-нет...
— Тогда вставай. Мы едем.
* * *
В темноте пещеры время капало, как талая вода с сосульки; Ялка быстро потеряла ему всякий счёт. Ей казалось, что прошла вечность. Она сидела спиной к стене, завернувшись в одеяло и с наслаждением вытянув к костру истерзанные ноги. Иногда ей приходило в голову, что она до смерти вынуждена будет так сидеть, без завтра и вчера, и тогда она вздрагивала, как от холода, хотя тот уголок пещеры, где они обосновались, более-менее прогрелся. Склеп сделался уютным настолько, насколько это понятие вообще применимо к склепу. Иногда здесь даже появлялись комары, назойливые одиночки, от которых было больше беспокойства, чем вреда. Ялка злилась на них, но потом подумала, что комары — это, наверно, хорошо, ведь раз они летают, значит, где-то неподалёку выход, а это внушало надежду. Но проходило сколько-то времени, и Ялка снова успокаивалась и забывалась в тревожном полусне. На Михеля, который околачивался рядом, иногда пытаясь с ней заговорить, она не обращала внимания. Или почти не обращала. Иногда её одолевали мысли.
Что за прихоть Судьбы заставила её проделать этот странный путь? Она была уверена, что здесь не всё так просто, но причину не могла найти. Она ушла из дому — это раз. И выследила Лиса — два. А после потеряла Лиса — три... Казалось, после этого всё должно было остановиться или, во всяком разе, встать на место, сделаться понятным, однако игра продолжилась. Зачем? Кому это было нужно? Во всяком случае, не ей.
Но где-то в глубине души Ялка понимала, что история завязана именно на ней. И то, что травник так внезапно возвратился из небытия, не столько радовало, сколько пугало. Сейчас, здесь, сидя в темноте и тишине, она обдумывала это со всех сторон и всякий раз приходила к одному и тому же выводу: выбор был. И голос травника за дверью кельи напугал её едва ли не больше, чем огонь и пыточные клещи. Надо было признаться себе: она боялась. До исступления, до ужаса, до дрожи. Но... чего? Не травника же, в самом деле!
Понять это она не могла.
Складывая в уме так и этак события прошедших месяцев, Ялка смутно ощущала, что распутывает некую головоломку, смысл которой ускользает от неё. Она будто держала в руках все нити — все, и даже спицы! — только не могла понять, какую шаль ей надлежит связать из этой пряжи. Тревога отпустила, но осталось беспокойство. Она дремала, вскидывалась, ёжилась от холода, подбирала ноги, звякая цепями, и вдруг, в одно из таких внезапных и тревожных пробуждений, поняла одну простую мысль: да, ей был дарован выбор.
Только она его не сделала.
Все как сговорились, весь мир будто ополчился против неё. И травник, и Единорог, и все другие словно бы подталкивали девушку к какому-то решительному шагу. А она всё убегала, убегала... всякий раз она бежала от чего-то, чтоб не думать, чтобы отрешиться, чтоб замкнуться в коконе душевной пустоты. Серость будней, равнодушие, опустошение — она почти умерла, уже не обращала внимания на мир вокруг и на себя в этом мире. Но мир-то от этого не перестал существовать...