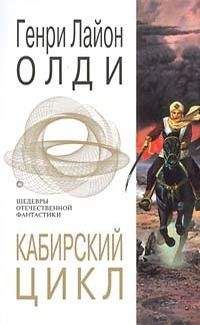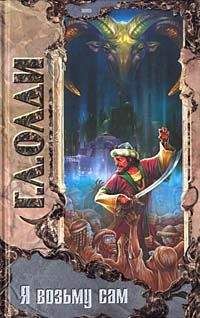И еще запомню я, как хлестал плашмя по лицам и рукам, а Дзю вырывал из влажных пальцев схваченные им сабли и ножи, и вышвыривал их вон из круга, и Чэн пел звонко и радостно: «Во имя клинков Мунира зову руку аль-Мутанабби!»
— Во имя…
…и изумленный топор скрежещет краем по зерцалу доспеха, почти увлекая за собой споткнувшегося ориджита; а я слышу отдаленный свист Гвениля: «Давай, Однорогий!»
— …клинков…
…и три сабли, брызжа искрами, скрещиваются в том месте, где только что было, не могло не быть плечо проклятого Мо-о аракчи, и в миг их соприкосновения они еще успевают увидеть мелькнувшее рядом предплечье Чэна в кованом наруче работы старых кабирских мастеров, к которому прижался Дзюттэ Обломок, шут, забывший о шутках — лязг, визг, и я подхватываю одну из сабель на лету, как подхватывал Эмрах ит-Башшар Кунду Вонг, и отправляю за пределы нашей Беседы…
Затопчут ведь, глупая!
— …Мунира…
…и вот я на пустом пространстве, и двое — круглолицый парень-шулмус и узкий прямой меч с иссеченной крестовиной — несколько длинных-длинных мгновений отчаянно рубятся с нами, и я поправляю их удары, давая пройти вплотную, подсказывая мечу («Родня ведь!»), придерживая Обломка с его рискованными замечаниями… а глаза горят, и клинки горят, и пауза длится, пока Шулма не вспоминает, что она — Шулма, а я не уверен, что ей так уж хочется это вспоминать…
— …зову руку…
…летят ножи, сверкающие клювастые птицы, три ножа и еще одно копье, короткое, легкое, юное — и мы встречаем их, кружим в стремительном танце, не давая упасть на землю, и вот они уже снова летят, летят над головами, падая у коновязи под издевательский шелест ножей Бао-Гунь, а знахарка Ниру лежа хлопает в ладоши…
— …аль-Мутанабби!
…тишина.
Странная, непривычная, неуместная…
Я уже слышал такую тишину — молчание судьбы, неожиданно ставшей серьезной.
Они стояли и смотрели — но выражение лица кименца Диомеда ничем не отличалось от выражения лица любого шулмуса, а застывший на плече Фальгрима Гвениль был подобен замершей на полувзмахе сабле рыжеусого; и круги Кабира и Шулмы перемешались.
Чэн медленно обвел взглядом изваяния, миг назад бывшие вихрем движения, потом повернул голову — и я услышал, как сдавленно охнул Обломок, и увидел правую руку Чэна.
Увидел ЕГО глазами. Глазами Чэна Анкора.
Чэна-в-Перчатке.
Шальной удар случайно рассек ремень, которым наруч доспеха крепился у запястья, и теперь сам наруч болтался на оставшемся ремешке, а рукав кабы, которую Чэн надевал под доспех, вообще оказался напрочь оторванным, — и рука аль-Мутанабби была обнажена.
Те ремешки и застежки — особая гордость Коблана — с помощью которых рука аль-Мутанабби когда-то, в ставшем чуть ли не нереальным прошлом, пристегивалась к культе, куда-то исчезли, как не бывало…
Рука не держалась ни на чем. Она просто — была.
Ее теперь нельзя было снять.
Разве что отрубив заново.
И кожа Чэна от края бывшей латной перчатки до локтя была серо-чешуйчатой, словно металлические кольца вросли в живую плоть, превращая ее в себя, плавно переходя от смерти к жизни, от невозможного к возможному, от правды к неправде, от прошлого к настоящему…
От Блистающего к человеку?
— Асмохат-та! — выдохнула Шулма.
— Клянусь Нюрингой… — пробормотали Кабир и Мэйлань.
«Да что ж это такое?!» — в смятении подумал Чэн-Я; а Обломок молча вернулся за пояс, ничего не сказав.
И одинокий гневный голос:
— Мангус! Кара-мангус!.. хурр, вас-са Оридж!..
Все-таки он был храбрым Придатком — нет, он был храбрым человеком, упрямый нойон Джелмэ, пылинка в подоле гурхана Джамухи.
Моего с Чэном любимого внука, надо полагать?!
5
Шулмусы не двигались с места.
— Хурр, вас-са Оридж!
Медленно, один за другим, они опускались на колени, клали перед собой оружие — Дикие Лезвия ложились беззвучно и покорно — потом ориджиты садились на пятки и утыкались лбом в свои клинки, склонившись перед чудом, превращаясь в недвижные маленькие холмики.
— Хурр!..
Нет.
Казалось, эти холмы ничто не могло заставить шевельнуться.
Даже землетрясение.
И Мне-Чэну почудилось, что некоторые из моего отряда еле сдерживаются, чтобы не присоединиться к шулмусам. Что их удерживало? Восемь веков, отделяющих Кабир от Шулмы? Время, притворяющееся рекой?..
— Хурр!..
Нет.
Нойон Джелмэ покачнулся и с ненавистью глянул на Чэна-Меня.
— Мангус! — прошипел он, кривя рот в гримасе не то ярости, не то плача. — Уй-юй, мангус-сы!.. ылджаз уруй…
Он шагнул к нам, обреченно поднимая саблю — и ему наперерез кинулся тот самый круглолицый ориджит, который первым сказал: «Асмохат-та!»
Меч круглолицего так и остался лежать на земле, а сам ориджит что-то выкрикивал, захлебываясь словами и слезами… они упали, покатились в пыли, тела их переплелись, превратившись в орущий и дергающийся клубок, и лишь я видел, как рвущийся к ненавистному мангусу Джелмэ перехватывает саблю лезвием к себе и коротким рывком полосует руку круглолицего, вцепившуюся ему в ворот, и красный браслет проступает чуть повыше запястья…
Руку.
Правую.
Руку.
Руку!..
И огонь ударил мне в клинок.
Никто не заметил, как умер гордый нойон Джелмэ. Да он и сам не успел ничего понять, почувствовать или хотя бы испугаться. Просто я вдруг стал длинным, очень длинным, на всю длину полного выпада, и вот я уже короткий, такой, как прежде, вот я уже вынырнул из случайного просвета между двумя сплетенными телами, а круглолицый не знает, что борется с мертвецом, и кровь из рассеченной яремной жилы Джелмэ заливает ему лицо, одежду…
Чэн, не вытирая, бросил меня в ножны, левой рукой подобрал саблю нойона, долго смотрел на нее — что видел он в тот миг? — и наконец выхватил из-за пояса Дзюттэ.
Шут обнял саблю, и та умерла легко и быстро.
Дикие Лезвия отозвались протяжным стоном.
Чэн держал Дзю в руке аль-Мутанабби, в страшной руке, в нашей общей руке, в сросшемся воедино умении дарить жизнь и отнимать жизнь, и я не ревновал Обломка к руке Чэна-в-Перчатке.
Я думал о дне, когда Чэна не станет, когда его правая рука умрет во второй раз, и о том, что в тот день я…
…я…
Что будет со мной в тот Судный день?!
Круглолицый ориджит поднял голову — Я-Чэн вздрогнул, увидев его лицо — и заговорил хриплым срывающимся голосом.
Взяв Дзюттэ в левую руку, Чэн опустил руку аль-Мутанабби на мою рукоять.
— Он говорит, — сказал подошедший к нам Асахиро, единственный, кто смотрел на живую латную перчатку без содрогания; нет, не единственный — еще Коблан.