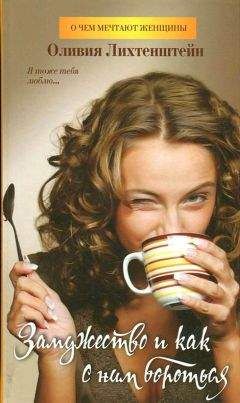— Тебе стоило схватить его за шкирку и сделать это, хотел он там или нет. Ведь то же сделала с Первым Сыном Мёртвого Семени, Анастером, эта женщина, ну, которая стала новым Кованым щитом, верно? И он теперь скачет с ней бок о бок…
— И ничего не помнит. Он — ничто, пустая оболочка, сударь. В нём не было ничего, кроме боли. А когда её забрали, вместе с ней исчезла и его сущность. Вы бы хотели такой же участи для Бука, сударь?
Остряк нахмурился.
Обзор закрывали изъеденные ветром холмы, но, по словам Скаллы, им оставалось меньше лиги, с ветром уже доносился приглушённый стук, который предупреждал двух мужчин о приближении фургона.
Едва они достигли вершины холма, сразу пришлось натянуть поводья, чтобы не врезаться в запряжённых волов.
На голове Эмансипора Риза красовалась широкая грязная повязка, которая обхватывала его голову, частично прикрывая разбухшую щёку и заплывший правый глаз. Увидев двух неожиданно появившихся всадников, кошка на коленях Риза завопила и вскарабкалась по груди слуги на левое плечо, запрыгнула на крышу жуткого фургона, где скрылась в куче шкур и костей к’чейн че’маллей. Риз и сам запрыгнул на облучок, чуть не свалившись с него, прежде чем выровняться.
— Плидулки! Фачем фы это фделали? Худоф дух!
— Наши извинения, сударь, за то, что так вас испугали, — сказал Итковиан. — Вы ранены…
— Ланен? Дфа. Фуба. Фломал их. Олифкофая коффочка.
Итковиан недоумённо посмотрел на Остряка.
Смертный меч пожал плечами:
— Оливковая косточка, наверное?
— Да! — Риз быстро закивал и тут же вздрогнул от резкого движения. — Ффо фам нуфно?
Остряк глубоко вдохнул, затем сказал:
— Правда, Риз. Где Бук?
Слуга пожал плечами.
— Неф его.
— Они его…
— Неф! Уфол! Улефел! — он помахал руками вверх-вниз. — Флоп-флоп! Дофло? Неф?
Остряк выдохнул, отвёл взгляд, затем медленно кивнул.
— Вполне, — ответил он немного погодя.
Открыв дверцу, из фургона выглянул Бошелен.
— Почему мы останови… о, капитан… и «Серый меч», я полагаю, но где твоя форма, господин?
— Не думаю, что…
— Неважно, — прервал его Бошелен, вылезая. — На самом деле мне неинтересно. Итак, господа, у вас, видимо, есть какое-то дело ко мне? Прошу простить за грубость, я в последнее время крайне утомлён и нетерпелив, увы. И прежде чем вы скажете ещё хоть слово, я бы порекомендовал не раздражать меня. Если меня бесцеремонно перебьют ещё хоть раз, у меня окончательно лопнет терпение, а это крайне неприятно заканчивается для окружающих, уверяю вас. А теперь — что вам от нас нужно?
— Ничего, — ответил Остряк.
Тонкая чёрная бровь некроманта взлетела вверх:
— Ничего?
— Я пришёл спросить о Буке.
— О Буке? Кто… ах да, о нём. Что ж, когда увидите его в следующий раз, передайте, что он уволен.
— Передам.
Последовавшее молчание прервал Итковиан, прочистив горло.
— Сударь, — обратился он к Бошелену. — Ваш слуга сломал зуб и, похоже, испытывает значительное неудобство. Уверен, что с вашим искусством…
Бошелен обернулся и посмотрел на Риза:
— Ах, это объясняет повязку на голове. Признаться, я уже и сам задумывался… думал, может, новая местная мода? Но, как оказалось, вовсе нет. Что ж, Риз, похоже, мне придётся ещё раз попросить Корбала Броша подготовиться к операции — это уже третий сломанный зуб, да? Снова оливки, не сомневаюсь. Если ты настолько уверен, что косточки оливок смертельно ядовиты, то почему проявляешь подобную беспечность, употребляя эти плоды в пищу? Ах, не бери в голову.
— Не нафа опелации, пошалуйффа! Неф! Плофу!
— Что ты там бормочешь, старик? Тихо! И вытри слюну — это отвратительно. Думаешь, я не вижу, что ты страдаешь, слуга? Из твоих глаз катятся слёзы, и ты бледен — мертвенно-бледен. Посмотри, как тебя трясёт — нельзя больше медлить! Корбал Брош! Выходи и захвати свою чёрную сумку! Корбал!
Фургон в ответ слегка затрясся.
Остряк развернул коня. Итковиан последовал его примеру.
— Что ж, до встречи, господа! — сказал им Бошелен. — Будьте покойны, я благодарен вам за то, что обратили моё внимание на состояние слуги. И он, разумеется, тоже благодарен и, несомненно, сказал бы вам «спасибо», если бы мог говорить.
Остряк поднял руку в прощальном жесте.
Они поехали догонять Легион Трейка.
Некоторое время оба молчали, пока внимание Итковиана не привлекли тихие звуки со стороны Остряка. Смертный меч смеялся.
— Что вас так развеселило, сударь?
— Ты, Итковиан. Думаю, Риз будет проклинать твою заботу до конца своих дней.
— Странное проявление благодарности. Разве его не вылечат?
— Нет, я уверен, что вылечат, Итковиан. Но вот тебе тема для размышлений. Иногда лечение хуже болезни.
— Вы не могли бы пояснить?
— Спроси Эмансипора Риза в следующий раз, когда увидишь.
— Что ж, сударь, так и сделаю.
Зловоние дыма впиталось в стены, а старые пятна крови на коврах свидетельствовали о гибели аколитов в коридорах, залах и пристройках по всему зданию.
Колл гадал, рад ли Худ тому, что его чад отправили к нему прямиком из храма.
Казалось, осквернить место, посвящённое смерти, не так-то легко. Даруджиец сидел на каменной лавочке перед погребальным залом и чувствовал дыхание неугасшей силы, холодной и безразличной.
Мурильо мерил шагами широкий главный коридор справа, то появляясь, то исчезая из поля зрения.
В святой гробнице Рыцарь Смерти готовил место для Мхиби. Уже прошло три колокола с тех пор, как избранный слуга Худа вошёл в зал и двери за ним сами собой захлопнулись.
Колл выждал, пока Мурильо снова появится.
— Он не может выпустить из рук мечи.
Мурильо остановился, бросил на друга взгляд.
— И?
— Ну, — пробормотал Колл, — наверное, у него ушло три колокола на то, чтобы сделать кровать.
Лицо Мурильо выражало явственное подозрение.
— Это ты пошутить пытался?
— Не совсем. Я думал более приземлённо. Пытался представить, насколько же неудобно что-либо делать с прилипшими к рукам мечами. Вот и всё.
Мурильо хотел было что-то сказать, но передумал, выругался под нос, развернулся и возобновил своё занятие.
Они привезли Мхиби в храм пять дней назад, уложив её в комнате, которая принадлежала прежде какому-то важному жрецу. Разгрузили повозку, разложили еду и воду на полках среди осколков сотен разбитых кувшинов. Стены и пол оказались липкими от вина, воздух пропитался приторной сладостью, словно передник корчмаря.
Вся еда теперь отдавала вином, напоминая Коллу о без малого двух потерянных годах беспробудного пьянства, когда он погружался в тёмные глубины страдания так, как может утопать только человек, упоённый жалостью к себе. Он был бы рад теперь назвать человека, которым был, незнакомцем, но у мира была неприятная привычка незаметно вертеться, и то, к чему ты вроде бы повернулся спиной, возникало вдруг прямо перед носом.