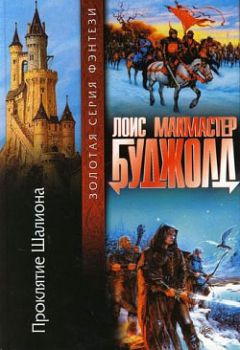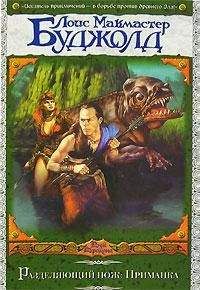— Я ничем тебе не обязан и не обязан ничего объяснять.
— А вот им ты обязан всем!
Хорсривер не мог — со сменяющими друг друга по всему черепу лицами — отвернуться, но спиной к Йяде он все же встал.
— Это в прошлом. Все давно закончено.
— Нет!
Хорсривер резко повернулся и прорычал:
— Они последуют за мной во тьму, и боги, которые отвергли нас, будут отвергнуты в свою очередь. Забвение и месть! Они создали меня, и ты не можешь этого изменить!
— Я не могу… — Йяда поколебалась, потом посмотрела на знамя, на древко которого опирался маршал, слушая их разговор. Повернувшись к могильному холму, она указала на распростертое тело Венсела и склонившуюся над ним безмолвную Фару. — Ты умер, как я понимаю. Смерть кладет конец королевской власти вместе со всем, что происходило на протяжении жизни в мире материи. Мы отправляемся к богам нагими и равными друг другу, как и при рождении; иными оказываются только наши души — вследствие того, что мы с ними сделали. Потом кланы избирают нового короля. — Йяда с вызовом оглядела призрачных воинов. — Не так ли?
По их рядам пробежал странный шорох. На лице знаменосца, опиравшегося на древко, отразилась смесь печали и нечестивой радости. Только теперь Ингри догадался, что это, должно быть, первый знаменосец Хорсривера, павший при Кровавом Поле. Его тело, несомненно, погребено в том же рве: Хорсривер говорил, что королевское знамя было разломано и брошено на его тело, а знаменосец никогда не отдал бы его, пока был жив. Королевскому знаменосцу полагалось быть хранителем королевской власти до собрания кланов и вручить ее следующему избранному королю; так бы и произошло, если бы могущественное незавершенное заклятие не задержало события на многие мучительные века.
— Ты умер, — настаивала Йяда. — Это — собрание кланов Древнего Вилда, последнее собрание. Воины могут избрать нового короля, такого, который не предаст их в смерти.
— Другого не существует, — фыркнул Хорсривер.
Шорох становился все громче, пробегая по толпе, подобно огню. Знаменосец выпрямился и повернулся к Йяде, приветствуя ее неуклюжим знаком Пятерки. Его призрачные губы растянулись в улыбке. Он выпустил древко знамени, и Йяда подхватила его и крепко сжала.
«Как же так, — подумал Ингри, — мы, живые, не можем коснуться этих призрачных предметов, они текут сквозь пальцы, как вода…»
Йяда стиснула древко обеими руками и сильно встряхнула его. Над ее головой развернулось и заколыхалось в безветренном воздухе знамя. На красном поле скалила клыки черная волчья голова Волфклифов.
Ингри заморгал своими человеческими глазами и с усилием поднялся на ноги. Он снова был в своем теле — ощущение было таким потрясающим! Ингри глубоко втянул воздух. Его волк исчез… Нет. Ингри прижал руку к сердцу. «Он здесь». Волк с радостным рычанием мчался по его венам. И было еще кое-что… Связь между ним и Хорсривером, та, что раньше соединяла его с Йядой, а потом была разорвана Хорсривером, чтобы привязать Ингри к его королевской ауре… Эта связь вибрировала от напряжения, притяжение делалось более мощным.
Хорсривер потянулся к Фаре, рывком поднял ее на ноги и сунул ей древко своего знамени.
— Держи! — Фара в ужасе взглянула на супруга и вцепилась в древко, словно от этого зависела ее жизнь. Сила древней королевской магии, питаемая смертью и муками, скрытыми под могильным холмом, была велика.
Ингри облизнул губы и прочистил горло. Теперь он снова владел колдовским голосом.
— Что ты можешь сказать, Фара?
Он явственно ощутил, как заклятие молчания, наложенное на Фару Хорсривером, слетело с нее, как распрямившаяся пружина, кувыркаясь в воздухе. Фара с шумом втянула воздух.
Хорсривер повернулся к ней — в первый раз на его лице проступили черты Венсела — и протянул к ней руку.
— Жена моя!..
Фара дернулась, словно пронзенная стрелой, и зажмурилась от боли. Открыв через несколько секунд глаза, она взглянула на Йяду, потом на Ингри и, наконец, на Хорсривера.
— Я пыталась быть тебе женой, — прошептала она. — Ты же никогда не старался стать мне мужем.
И она склонила знамя; серое полотнище растеклось по земле шелковой лужицей. Фара поставила ногу на древко, и сухое дерево треснуло, разломившись пополам.
Хорсривер отступил на шаг; половина его лиц, казалось, перекосилась от гнева, а на остальных появилось выражение ироничной безнадежности и отвращения; только на одном лице промелькнуло покорное достоинство. Руки Хорсривера бессильно упали, и связь, соединявшая его с Ингри, растаяла в воздухе, как гаснут в темноте разлетевшиеся от костра искры. Глаза с невероятной мукой воззрились на Ингри, и на лицах отразилась горькое сожаление.
Ингри обнаружил, что цепляется за древко знамени в руках Йяды, чтобы не упасть. Огромная тяжесть королевской ауры Хорсривера не то чтобы исчезла, но давление, испытываемое Ингри, теперь исходило не из одной точки, а словно со всех сторон. Затем наступил момент затишья, безмолвной неопределенности, и поток королевской магии изменил течение, хлынув наружу. Вместе с этим ощущением к Ингри пришел неопределенный страх, несравнимый ни с чем, что он испытал за все долгие часы бесконечных потрясений.
— Ты обнаружишь, — прошипел Хорсривер, — что власть священного короля изнутри выглядит иначе. И мое отмщение от этого только удвоится. Что же касается забвения… я все равно его достигну. — Голос Хорсривера превратился в тихий вздох.
Хотя Хорсривер не сошел с могильного холма, он словно отдалился, наконец замолк, сделавшись похожим на утопленника под водой. Лишившись обеих поддерживавших его сил — духа жеребца и королевской ауры, — он стал всего лишь одним из призраков среди многих; его отличало от них лишь множество лиц и какая-то странная плотность. «Да, — подумал Ингри, — он тоже воин Кровавого Поля, павший на этой священной и проклятой земле; он теперь не больше, чем остальные призраки, но и меньшим он стать не может.
Но во что превратился я?»
Ингри чувствовал, как мистическая королевская аура обволакивает его, проникает внутрь. Она не дала ему ощущения огромной гордости и силы, бьющей через край; напротив, Ингри казалось, что из него вытекла вся кровь.
И Йяда, и Фара, обнаружил Ингри, смотрели на него, открыв рты, с одинаковым выражением благоговения, слегка окрашенным физическим желанием, — теми чувствами, которые раньше вызывал Хорсривер. Подобные взгляды должны были бы заставить любого мужчину гордиться собой, но Ингри казалось, что обе женщины готовы съесть его живьем.