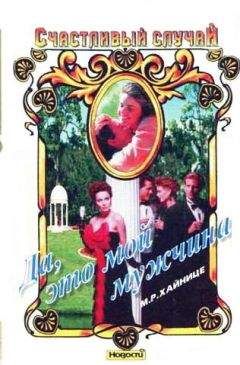Ничего, подумала я, завтра храмовый день, назовут мальчонке покровителя… Хранителя стад или вон Звериную матерь, как у меня… стоп, это о чем?..
— Погоди, — я уставилась на бабушку, — я не поняла. Причем тут мой дар? У него что, тоже?..
Новым, придирчивым взглядом я воззрилась на Гвендиного малыша. Такой… обычный! Младенец как младенец. Это что же, и я была вот такой? Качалась в березовой девчачьей зыбке — и уже видела звериные сны? Плакала от чужого страха раньше, чем научилась бояться сама?
А он — подрастет, и раньше научится понимать собак да коров, чем соседских одногодков? И всегда будет хоть и свой, да чуточку на отшибе…
Я шла из деревни, ощущая себя непривычно растерянной — и, как это ни глупо, чужой. Даже бабушке — чужой, что уж говорить о деревенских. Когда-то давно я спросила у бабушки, был ли у моей мамы тот же дар, что у меня, дар Звериной матери. Бабушка ответила — нет. До сих пор я не знала никого с этим даром. И вот — Гвендин малыш. Не мне ли придется лет через пять-шесть объяснять ему, что к чему? Мне никто не объяснял.
Почему-то хотелось плакать. Рэнси, как чуял, крутился рядом, повизгивал, то тыкался носом в ладонь, то прихватывал зубами край юбки. Щеня игривое, даром что Серого на ладонь в холке выше.
И дома все валилось из рук. Бабушка поглядывала искоса, не говорила ничего. Она всегда знала, когда лучше обнять меня и утешить, а когда — разрешить побыть одной в своих мыслях. Вот только сейчас мне плохо было одной. Мне нужен был рядом такой же, как я. Чтобы тоже знал этот страх — но умел прогнать его. Чтобы не было так бесконечно одиноко, чтобы, закрывая глаза, не ждать с ужасом темных снов о чужой смерти. Вольно ж тебе, Сьюз, мечтать о несбыточном…
Всплеск ужаса ударил внезапно; разжались ослабшие пальцы, миска с кашей упала на пол, раскололась надвое. Преодолев мгновение оторопи, я метнулась к окну — открытому, ох, правильно Анегард ругал нас за беспечность! Так, ну и что стряслось? За окном все тихо и спокойно, обычный летний денек, Серый дремлет в тени колодца, Злыдня, зараза, объедает завязи с нижней ветки старой яблони. Как это бабуля выражалась — покой и благолепие?
И только мне слышный смертный ужас.
Заполошное кудахтанье указало направление — и подсказало отгадку. Бесов сын хорек! За хвост и об стену! Предупреждала куроцапа!..
Злая, как дюжина бесов, я ворвалась в курятник. Отмахнулась от вихрящихся перед лицом перьев, проморгалась, всмотрелась. И увидела совсем не то, что ожидала. Нахально не обращая внимания на птичий переполох, куроцап тащил в зубах жирную черную крысу.
Я прислонилась к косяку и расхохоталась. Выдавила сквозь смех:
— Да ты, выходит, полезный постоялец!
Хорек встряхнул добычу, словно понял мою похвалу. Я опустилась на корточки, поймала взгляд черных глазенок. Осторожно, одним пальцем, погладила золотисто-бурую шерстку. Оставайся и живи, охотник.
И, успокоив дур-несушек, пошла в дом. Закрывать окна, бесы бы их побрали вместе с неизвестной нежитью, Куржевой ворожбой и Анегардовыми выволочками.
Рэнси, аккуратно обходя осколки, подъедал с пола кашу. Бабушка, не обращая внимания на это безобразие, хлопотала у печки. Здесь мне хорошо, меня любят, а дар… ну что дар, вон, тем же магам наверняка тяжелее приходится, и ничего, живут и радуются жизни. Утренняя тоска махнула крысиным хвостом и шмыгнула в тень.
— Бабуль, — спросила я, наложив себе каши, — а что это было, ночью? И зелье незнакомое, ты мне такого не показывала.
— Сны помнишь? — вопросом на вопрос отозвалась бабушка.
Я вздрогнула. Бабушка кивнула:
— Помнишь. Для того и затевалось. Ты прости, девонька… Отвар-то и впрямь, чтоб спала, но еще — для яркости снов, а наговор на нем — чтоб не забылись те сны поутру, не развеялись вместе с тьмою ночной. Вот приедет молодой барон, да попробуем разобраться вместе, что снится вам…
— Ты что, — едва не подавилась я, — ему тоже такого дала?!
— Нет, — бабуля хмыкнула чуть слышно, — зачем? Он своей земле хозяин и защитник, это посильнее наговоров будет. Ты лицо его вспомни — небось ни одной ночи с тех пор не спал спокойно…
А и верно, вид у Анегарда… ой, спохватилась я, а сама-то? После такой ночки…
Каша не полезла в горло. Я бросила ложку, вскочила. Заглянула в ведро с водой, ловя смутное отражение.
О-ёй… бледная, как поганка… и страшная, наверное, как мертвяк!
— Сьюз! — бабуля смотрела сердито. — Не дури! Перед кем прихорашиваться собралась? Сама вчера говорила…
Я едва сдержала слезы: если парень не для тебя, разве это повод показываться ему уродиной? Повернулась ответить, но тут радостно залаял Рэнси, завилял хвостом.
— Эгей, дома ли хозяюшки?
Я закусила губу и убежала к себе. Хоть успокоиться.
Когда вышла, Анегард сидел за столом, снова, как и вчера, баюкая в руках кружку с квасом. Мою недоеденную кашу бабушка убрала — что ж, и на том спасибо! Они замолчали при моем появлении, и я спросила едко:
— Не помешаю?
— Тебя ждем, — коротко ответил Анегард. Бабушка сердито поджала губы.
Ладно, сказала я себе, бабуля права: все равно он на тебя и не смотрит. И хорошо. А то ишь, возомнила…
Я и села не напротив — чуть сбоку. Он — воин! — отслеживал окно и двери, вот и прикинула, где под взгляд не попадусь. Не больно-то и хотелось!
— Рассказывай, — велела бабушка, — что из снов помнишь.
Я пожала плечами. Ответила коротко:
— Смерть.
— Верно, — кивнул Анегард. И добавил: — Незнакомая.
Я невольно потерла шею; и, прежде чем поняла, почему, молодой барон кивнул:
— Горло рвут, да. Неизвестный нам хищник, летающий, пикирует на жертву сверху, валит на землю и рвет горло. Причем это не птица, потому что зубы.
— И тяжелый, — вырвалось у меня.
— Да, — согласился Анегард, — крупный. Примерно с человека, с мужчину. Но кто это может быть… что скажете, баба Магдалена?
— Никогда о таком не слыхала, — призналась бабуля. — Оборотни если, так не летают они, да и байки это пустые, оборотни. Кто их видел, кроме пьяни подзаборной?
— Мэтр Курж видел, — голос Анегарда прозвучал не слишком уверенно, словно и сам он верил городскому магу не больше, чем трактирному забулдыге. Бабушка буркнула что-то себе под нос — наверняка весьма нелестное.
— Но о летающих и мэтр Курж, кажется, не знает, — помолчав, добавил Анегард. — Вот разве съездить в Оверте и городского архивариуса расспросить? Пусть в старых бумагах пороется, вдруг чего нароет…
Бабуля покачала головой:
— Вряд ли. Люди бы помнили. Память людская — она лживая, но крепкая. Баек бы наплели, переврали бы несусветно, но что есть на свете такая дрянь — помнили бы.