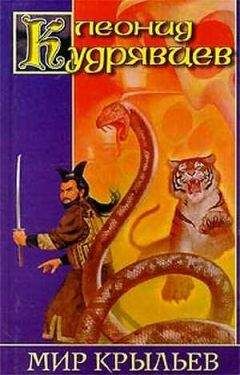— Люк! — крикнула я, голос странно отозвался в пустой квартире. — Люк, — повторила я тише. — Люк. Люк…
Я села на табурет и стала ждать. Часы тикали, а я ждала. Небо светлело, а я ждала.
Когда стало совсем светло, я поняла, что он не придет.
«Когда я уйду, ты даже плакать не будешь.»
Он был прав, этот ублюдок. Я не плакала. Глаза жгло, а слез не было. Я сидела на табуретке и смотрела прямо перед собой. Чей-то крик ввинчивался в мозг. Я закрыла ладонями уши, но это не помогло. Тогда я зажала себе рот, и крик прекратился.
По улице с шумом проехал грузовик. Это было странно, почти чудовищно. Как он мог ехать, когда весь мир умер? Солнце взошло, чтобы осветить мертвый город, пустые дома и безжизненные улицы. Город, где не было его.
«Однажды ты проснешься, а меня не будет.»
Неужели он ушел из-за того, что мы… Неужели вчера мы оказались перед роковым выбором, перед главной развилкой на дороге своей судьбы? Но мы не знали, что это была за развилка — о, какое счастье, что мы не знали! Иначе выбор был бы слишком мучителен, а отвергнутая возможность осталась бы камнем лежать на сердце, ежечасно, ежеминутно напоминая, что все могло бы быть по-другому.
Ты только в одном ошибался, Люк, — не тебе, мне теперь будет небытие. Тот, кто забрал тебя, забрал не одну, а две души. Вы, там, на небесах! Какое вы имели право забрать его? Какое, какое?! О да, я понимаю вас — ведь теперь он с вами.
Он не знал, куда попадет, в рай или в ад, но теперь это неважно — ведь там, где он, там всегда будет рай. Как хочется умереть — смертельно, до боли — но нельзя, потому что моя жизнь была смыслом его существования, и я не имею никакого права прерывать ее. И остается молить только об одном — чтобы время шло быстрее, чтобы быстрее настал миг, когда я попаду туда. Я найду его, я не смогу не найти его, будь то на небесах или под землей.
Тебя нет всего несколько часов, а я уже так тоскую…
Родной дом стал для меня камерой пыток. Любая вещь, на которой останавливался взгляд, вызывала в памяти какое-то мгновение прошлого, того прошлого, где были мы. Лежащий на полке сиротливым комочком шарфик — едва ли не до середины апреля Люк заставлял меня надевать его, потому что я слишком часто простужаюсь. Закатившийся под диван проколотый резиновый мячик, принадлежавший когда-то моей собаке — а я уже и не помню, с чего мы вдруг решили поиграть им в футбол. Стекла тогда остались целы только чудом. А в самом деле, почему мы начали играть? Почему, почему?! Неужели я никогда этого не вспомню? Неужели постепенно я забуду все слова, что он мне говорил, его лицо, его жесты, его походку? Хотя бы одну фотографию! А можно ли фотографировать ангелов? Этого я теперь уже никогда не узнаю. Почему я не спросила его об этом, почему не спросила, когда он впервые увидел меня, почему не сказала, что люблю, почему, почему, почему…
«Я больше так не могу.» Эта мысль пришла мне в голову в половине третьего ночи, когда я сидела на кровати и глядела на подоконник, пытаясь понять — как я могла два года не замечать Люка, находившегося там? Я больше не могу вспоминать о нем. Я больше не могу это вынести!
Как только наступил рассвет, я накинула на плечи куртку и поехала туда, где Люка никогда не было. Где ничто не будет напоминать мне о нем. Я поехала на дачу. О бандитах Рашида я не думала — какой же мелочью это казалось теперь! И хорошо, что поезда шли с другой платформы, потому что вряд ли я смогла бы пройти еще раз по тому же пути, каким мы с Люком (Люк, Люк, Люк — как же я раньше не замечала, что это его имя? что оно не может принадлежать никому другому?) сматывались от троих бритоголовых парней.
Старый деревянный дом встретил меня затхлым воздухом и двумя мышами, нагло жующими газету прямо под столом. Пришлось открыть настежь окна и двери, помыть все стекла, запылившиеся за долгую зиму и куда более короткую весну, безжалостно смахнуть с углов ажурную вязь паутин. Все говорят, что работа заставляет забыть обо всем, но я могу точно сказать — это не так. Поверьте, есть вещи, о которых ничто забыть не заставит.
На третий день я наконец расплакалась.
Я всегда считала, что на даче у нас два неудобства: нет горячей воды и слишком далеко ходить за продуктами. Но горячую воду можно было как-то обеспечить с помощью чайника, а вот продукты… Мне пришлось отправиться на рынок, к станции, и это был настоящий кошмар. Я все время оглядывалась по сторонам, тщетно пытаясь разглядеть в толпе знакомую фигуру в черном, услышать среди рыночного гомона знакомый голос. В какой-то момент я поймала себя на том, что стою посреди площади и вглядываюсь в проходящих мимо людей. Наверное, так и сходят с ума. Вернувшись, я долго не могла открыть калитку, не заметив, что пытаюсь воткнуть в замок не тот ключ. Закрываться на замок было незачем, и я просто накинула цепочку. Красть у нас нечего, а если и заберется кто-то — что он сделает мне такого, что было бы хуже, чем есть уже? Ничего. Ничего он не сделает.
В груди вдруг начала разрастаться мерцающая боль, ломящая плечи и не дающая продохнуть. Я знаю ее, такое уже бывало, когда вот-вот должно было произойти что-то очень важное, но… Я шагнула по тропинке к дому, и вот тут дыхание у меня перехватило по-настоящему, а ноги приросли к земле.
На крыльце сидел Люк и курил. Я замерла, не в силах оторвать от него взгляд. Затем медленно закрыла глаза, ожидая, что он исчезнет. Но он не исчез. Затушил сигарету о ступеньку, встал, зачем-то отряхнул руки. «Ко мне пыль не пристает…»
— Я тебя еле нашел, — сказал он.
— Глюк? — обреченно спросила я, не узнавая своего голоса.
Он слабо улыбнулся.
— Ты меня уже во второй раз глюком называешь.
Свинцовая тяжесть, навалившаяся на меня, ушла, я бросилась к нему, не чуя под собой ног, а внутри все сжалось от страха, что руки мои сейчас обнимут пустоту и я упаду на землю. Но Люк сжал меня в объятиях так крепко, что перехватило дыхание.
— Я вернулся, — прошептал он мне в висок. — Я насовсем вернулся.
— Навсегда?!
— Да. да, навсегда, — он резко отпустил меня и, схватив лежащую на перилах зажигалку, с силой ударил ее о стену; я ахнула, — вот, смотри, — он полоснул осколком по пальцу.
Красная капля медленно, будто нехотя сползла к ногтю. Я протянула палец и дотронулась до нее — кровь размазалась по нашим рукам.
— Я живой, — внезапно охрипшим голосом сказал он. — Снова живой. Как ты.
— Но как же… как же так?
— Я не знаю, — торопливо заговорил он, будто боясь не успеть рассказать мне все, — не знаю, почему так случилось, просто почувствовал, что куда-то проваливаюсь, там, у тебя дома, почувствовал холод, понимаешь, настоящий холод, а потом… не помню. Пришел в себя, а тебя уже нет. И цветы завяли… Сколько дней прошло?