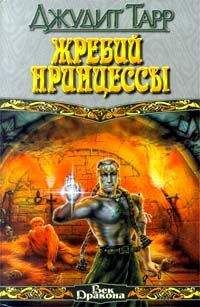— За идиотов, — ответил им Айдан без всякой мягкости. Он качался, как камень в урагане, но удерживался на ногах.
Они все были здесь, все до единого, и были буйны и дерзки, нарушив и достоинство, и дисциплину, чтобы обрушиться на него, они сейчас вспомнили и о том, и о другом, и почтительно простерлись перед ним. Тимур заговорил без разрешения, и Арслан звучно пнул его за это, но он говорил за них всех:
— Мы принадлежим тебе. Мы не хотим принадлежать никому другому.
— Даже себе самим?
Они вскинули головы.
— Но, — произнес Конрад своим сладким, звучным голосом певца, — мы должны принадлежать кому-либо.
— Вы можете принадлежать… — Айдан осекся. Они никогда не поймут. Карим прикрывал рот рукой, но глаза выдавали его. Он смеялся.
Айдан повернулся к нему.
— Ты наследуешь их. Ты заботился о них.
— Не я, — возразил Карим. — Я только заботился о них до твоего возвращения, как подсказывала мне совесть. — И Айдан видел, что Карим был более, чем счастлив избавиться и от них, и от совести.
— Она сказала нам, — произнес Тимур. — Когда отослала нас прочь. Ты не захочешь принять нас, и мы не должны навязываться тебе. Она ожидала, что мы послушаемся ее. Кем она себя считает?
— Дочерью Иблиса, — ответил Айдан.
Ильхан скорчил гримасу.
— Она женщина. Мы принадлежим тебе. Она оставила нас в Дамаске; мы не желали оставаться там, а она не дала нам последовать за тобою в Масиаф. И мы пришли сюда, мы знали, что ты появишься здесь. Ты должен принять нас обратно и наказать нас. Мы позволили бедуинам похитить тебя.
Они были так безрассудны, как самое безрассудное создание, которое он когда-либо видел.
— Если ты оставишь нас, — сказал Арслан, — мы последуем за тобой.
Айдан зарычал, наполовину от ярости, наполовину от неистовой радости.
— Я заставлю вас снять тюрбаны. Сбрить бороды, если они у вас есть. Поклоняться Римской Церкви.
Один или двое побледнели. Остальные даже не вздрогнули.
— Ты этого не сделаешь, — ответил Тимур. — Это не в твоем обычае.
— Откуда вы знаете, что в моем обычае?
Один-двое начали дрожать. Но не Тимур. Для этого у него не хватало разума.
— Я знаю, что ты хочешь принять нас. Твоя совесть велит тебя. Разве ты не можешь этого понять.
— Я понимаю. Но вам нечего делать ни в Иерусалиме, ни в Крестовом Походе против неверных.
— О, — обрадовался Тимур. — Крестовый Поход. Это джихад, ведь так? Джихад свят. Он предписан святым Кораном.
Айдан вскинул руки.
— Мастер Карим! Ты не можешь вбить рассудок в эти тупые головы?
— Я сомневаюсь, что кому-либо это под силу, — ответил Карим.
— Может, ты все же возьмешь их к себе?
Карим был неумолим.
— Нет. Если ты не беспокоишься обо мне, подумай хотя бы о Доме; вспомни, чьими мамлюками они были и что это за город.
Айдан прикусил язык.
— Ты хочешь принять нас, — сказал Ильхан. — Мы нужны тебе. Разве ты не говорил, что о тебе плохо подумали в Иерусалиме, когда ты приехал туда без армии? Теперь у тебя есть армия.
— Ну и армия, — вздохнул Айдан. — Да смилуются надо мной святые, мне и так-то не были особо рады. Но король… — Он помолчал.
— Король будет восхищен.
— Прокаженный? — спросил Дилдирим.
— Король.
Сказано было достаточно свирепо, чтобы заставить присмиреть даже кипчаков. Невелика победа: они все равно выиграли войну.
— Бог осудит вас за это, — проворчал Айдан. Они по-прежнему не поднимали голов, но он видел белые вспышки улыбок.
Карим заговорил прежде, чем молчание затянулось:
— Ты найдешь, что все они в порядке, и их вещи тоже. А, кроме того, пара твоих собственных вещиц, которым ты, быть может, будешь рад.
Одной из них было его почетное одеяние, упакованное во вьюк и так потерянное. Айдан секунду подержал его в руках, вспоминая его вес и его красоту. Так же, как и мамлюки, потерявшиеся и нашедшиеся вместе с этим одеянием, оно было радостью и тяжкой ношей.
Но он был рожден для этого, он, который был сыном короля. Он сложил одеяние обратно и повернулся к тому, что было еще ценнее, поскольку прежде принадлежало Герейнту: его серый мерин. Он терпеливо ждал, но ноздри его раздувались, приветствуя хозяина.
Из-за всего, что свалилось на Айдана — даже из-за его сорвиголов, живых и вернувшихся к нему, а ведь он так долго горевал по ним, — он не собирался плакать. Теперь, из-за немой скотины, он заплакал. Он сжал зубы, чтобы сдержаться, и вскочил в седло.
Когда он устроился в седле, невероятный тюрбан Карима остановился возле его колена.
— Держи голову пониже, — сказал купец, — пока не отъедешь подальше от города; и следи, чтобы твои черти поступали так же. Тебя помнят здесь, и не добром.
— Ваш регент не может причинить мне вреда, — ответил Айдан, — как и тем, кто едет со мной.
— Тебе — нет. — Карим покачал головой. — Мы наконец-то избавимся от тебя, сэр франк.
— На этот раз — да, — отозвался Айдан. — Я не нарушу ваш покой снова.
— Хвала Аллаху. — Карим произнес это искренне, но без враждебности. — Ты сослужил нам большую службу — это даже я могу признать. Мы в глубоком долгу перед тобой, и мы уплатим его, как было оговорено.
— И ни одним дирхемом больше.
Карим улыбнулся.
— Мы прежде всего купцы.
— Прежде всего, — согласился Айдан. Неожиданно он усмехнулся.
— Передайте мое почтение вашей госпоже. Она более достойна имени королевы, чем большинство из тех, кто носит этот титул.
Карим слегка поклонился.
— Ты истинный образец принца, — промолвил он.
— Разве я не принц? — Айдан подобрал поводья. — Да хранит тебя Бог.
— И тебя, — ответил Карим с безупречной вежливостью. Но взгляд его на миг стал озорным, как у мальчишки.
Джоанна покинула Алеппо не из-за гнева на Айдана и не из-за собственной храбрости. О, нет. Она была в глубоком обессиливающем ужасе.
Но под этим ее сознание оставалось ясным. Она видела то, что доселе отказывалась видеть. То, что у нее было с Айданом, было истинным и глубоким чувством. Но оно не могло длиться долго. Она была смертна. Он — нет. У нее была семья, которую она любила; мир, которому она принадлежала. Он был частью этого, но, если не считать нескольких похищенных моментов, не как ее возлюбленный. Их мечта о том, чтобы убежать и растить дитя в мире, была только мечтой. Слова, желания, и горькое изгнание.
Она считала, что он знал это, вероятно, лучше нее. Никто из них не заговаривал о свадьбе: о том, что может сделать принц перед лицом святой Церкви. Их связь была столь же сильна, как освященная законом или Церковью, но она не была ни тем, ни другим.